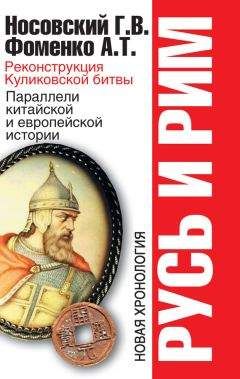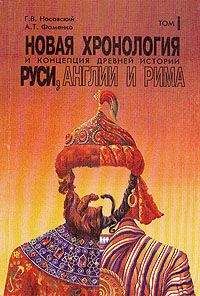Руслан Киреев - Великие смерти: Тургенев. Достоевский. Блок. Булгаков
Характерная деталь. Были ведь и другие врачи, много врачей, с некоторыми из них Тургенев состоял в дружеских отношениях, но со своей необычной, со своей отчаянной и одновременно деликатной просьбой обратился к человеку, с которым, по сути дела, был едва знаком. Зато врач этот был женщиной. А в женскую чуткость, в женское милосердие творец знаменитых тургеневских женщин верил, естественно, больше, чем в чуткость и милосердие мужчин.
Тем не менее, она ему отказала. «Помилуйте, как это можно!» Тут уже Тургенев цитировал ее, правда, устно, когда рассказывал другой женщине-доктору, Аделаиде Николаевне Луканиной, об этом эпизоде. Рассказывал, по словам Луканиной, «просто, спокойно, даже с юмором», но уже скоро в его голосе послышались слезы. «Я сам себе гадок, себе противен; зачем я живу, для чего — тряпка какая-то...» Может быть, безотчетно надеялся, что доктор Луканина не откажет ему в том, в чем отказала доктор Скворцова? Даже у живущей в доме гувернантки г-жи Арнольд, которая помогала ухаживать за ним, просил яду... Всё, обратите внимание, женщины. Но на сей раз женщин, в сердцах которых он так превосходно разбирался, не проняли его мольба и слезы. «Тряпка какая-то...» Можно представить себе, что стоило ему, пусть иногда, пусть в редкие минуты слабости сознавать себя таким — сознавать человеку, о котором сам Достоевский написал когда-то брату: «Поэт, талант, артист, красавец, богач, умен, образован, 25 лет — я не знаю, в чем природа отказала ему».
Теперь природа, когда-то столь щедрая к нему, отказывала своему любимцу в самой малости: не давала спокойно, без мук — без чрезмерных хотя бы мук — покинуть этот мир. Лишь иногда ненадолго отпускала в беспамятство, но потом возвращала. Зачем? Не затем же, чтобы выпрашивать яду — о яде больше не заговаривал — кое-что посущественней занимало его. Нужно было сказать — не важно кому, первому, кто попался на глаза — то важное, без чего он не мог уйти навсегда. «...Нельзя же умереть так, чтобы никто не знал», — как написал он когда-то в повести «Несчастная».
Таким первым попавшимся на глаза человеком оказался волею случая Жорж Шамро, зять Полины Виардо. «Веришь ли ты мне, веришь? — обратился вдруг к нему умирающий. — Я всегда искренне любил, всегда, всегда, всегда был правдив и честен, ты должен мне верить... Поцелуй меня в знак доверия».
Зять Виардо ни слова не понимал по-русски. Но приятель Тургенева князь Мещерский, со слов которого мы, собственно, и знаем об этой сцене, перевел сказанное, и француз Шамро выполнил последнее пожелание русского писателя.
«Потом, — пишет дальше Мещерский, — речи его стали бессвязны, он по многу раз повторял одно и то же слово с возрастающим усилием, как бы ожидая, что ему помогут досказать мысль и впадал в некоторое раздражение, когда эти усилия оказывались бесплодными, но мы, к сожалению, совсем не могли ему помочь».
Не мог помочь ему и спешащий в Буживаль художник Верещагин. Еще у парадного дворник предупредил его, что «господин Тургенев очень плох, доктор сейчас вышел и сказал, что он не переживет сегодняшнего дня».
Сегодняшний день — это вторник 3 сентября. В России еще было лето...
Верещагин поднялся наверх.
«Иван Сергеевич лежал на спине, руки вытянуты вдоль туловища, глаза чуть-чуть смотрят, рот страшно открыт, и голова, сильно закинутая назад, немного в левую сторону, с каждым вздыханием вскидывается кверху; видно, что больного душит, что ему не хватает воздуха, — признаюсь, я не вытерпел, заплакал».
Ля, художник Василий Верещагин заплакал, как когда-то заплакал, по собственному признанию, сам Иван Тургенев, описывая смерть своего героя Евгения Базарова.
Тут — между романом и жизнью — поразительные совпадения. Или, может быть, поразительные, хотя и не столь уж редкие в искусстве, прозрения?
«Базарову уже не сркдено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер».
Так все и было — словно свою собственную смерть описал. И, можно предположить, вложил в уста героя те самые слова, которые силился и не мог произнести, когда настал его черед.
Вот эти слова: «А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично».
Гигант с этой задачей справился.
ДОСТОЕВСКИЙ.
НА СЕМЕНОВСКОМ ПЛАЦУ
Обычно писатели резервируют местечко для смерти где-нибудь в конце произведения, а вот Достоевский сплошь да рядом перемещает ее ближе к началу.
На первых же страницах умирает в «Униженных и оскорбленных» старик с экзотическим именем Иеремия Смит, что, собственно, служит пусковым механизмом сюжета. То же самое — в «Вечном мрке» и в «Селе Степанчикове». В последнем богу душу отдает генерал, причем смерть эта напоминает скорей фарс, нежели трагедию.
Своеобразным прологом к «Братьям Карамазовым» с его массивной философской конструкцией служит смерть старца Зосимы, а убиение старухи-процентщицы и ее сестры происходит уже в первой части «Преступления и наказания». Смерть, причем двойная, и здесь является пусковым механизмом, который приводит в действие роман. Но она не единственная — как в этом произведении, так и в других. Потом, ближе к концу повествования, либо в самом конце нередко умирает еще кто-нибудь. Таким образом, смерть, вначале звучащая своеобразным стартовым выстрелом, под занавес отдается своеобразным опять-таки эхом.
Так было и с самим Достоевским...
«Стартовый выстрел» прозвучал для него 22 декабря 1849 года; прозвучал — в переносном смысле слова, но мог и в самом что ни на есть прямом. Вот как это происходило.
Ранним утром из Петропавловской крепости быстро выехала вереница карет в сопровождении конных жандармов с обнаженными саблями. В каретах было двадцать три человека, арестованных по так называемому делу петрашевцев ровно восемь месяцев назад, 22 апреля. Как взяли их тогда в легком весеннем одеянии, так и везли сейчас по морозу на Семеновскую площадь, где все рке было готово к казни. Возвышался обтянутый черным эшафот, вокруг выстроились в каре войска, а в отдалении, на валу, темнели на фоне свежевыпавшего снега толпы любопытствующих.
Среди арестованных был и 27-летний автор вышедших три года назад и прогремевших на всю Россию «Бедных людей». Когда-то их восторженно приветствовал Белинский, вот уж полтора года как мертвый, однако успевший перед смертью написать знаменитое письмо к Гоголю. В России оно было строжайше запрещено, о чем Достоевский, разумеется, прекрасно знал. Но это не помешало ему на собрании петрашевцев дважды прочитать с присущим ему воодушевлением опальный текст. Власти расценили это как подрыв устоев, и вот теперь декабрьским утром настал час расплаты.
Арестованных вывели из карет, заставили снять шапки и в течение получаса им зачитывали скороговоркой документ, который заканчивался словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему». После чего каждому было вручено по белому балахону и колпаку, солдаты помогли несчастным облачиться в это предсмертное одеяние, священник пригласил исповедоваться, но желающих не нашлось, и тогда батюшка обошел всех их с крестом и каждый к кресту приложился. Затем первых трех привязали к столбам, надвинули на глаза колпаки, солдаты вскинули ружья.
«Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты», — писал Достоевский в тот же день брату Михаилу из Петропавловской крепости, куда его с остальными осужденными вернули после того, как буквально в последнюю секунду на Семеновский плац была доставлена бумага, в которой возвещалось, что государь император великодушно заменяет смертную казнь на разные сроки наказания. Достоевский был приговорен к четырем годам каторги. Это не обескуражило его. «Никогда егце таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь», — спешил он обрадовать брата в том же письме. Но минута, что отделяла его от верной гибели, засела в его душе на всю жизнь и, собственно, во многом эту жизнь определила. И жизнь, и творчество — для Достоевского, впрочем, эти понятия нерасторжимы.
Рассуждая на первых же страницах «Идиота» о смертной казни, свидетелем которой ему привелось быть во Франции, князь Мышкин разгоряченно настаивает, что гильотина, выдаваемая чуть ли не за некий инструмент милосердия, страшней иных физических мук, на какие обрекают разбойники свою жертву. «Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит». Приговор же, продолжает князь, отнимает «последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче».