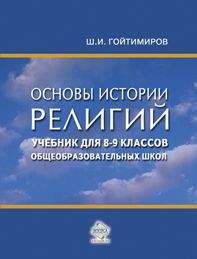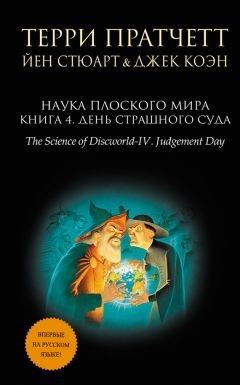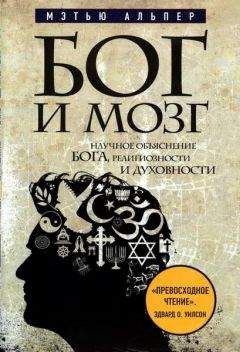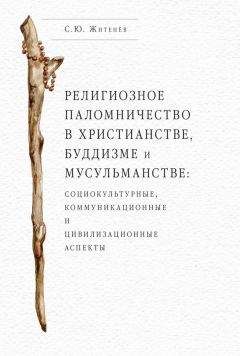Юджин Д'Аквили - Тайна Бога и наука о мозге. Нейробиология веры и религиозного опыта
66
Когнитивные операторы отличаются от когнитивных модулей – последний термин использует, например, такой нейробиолог, как Steven Pinker (1999). Как нам кажется, второй термин описывает более конкретные функции, которыми занимаются конкретные мозговые структуры. Так, скажем, математический модуль – это лишь определенный набор функций, связанных с основами арифметики, тогда как количественный оператор включает в себя сразу широкий спектр функций мозга, имеющих отношение к математике.
67
О существовании холистического оператора говорят данные исследований функций правого полушария, которое применяет более холистичные методы при обращении с перцепциями и для решения проблем (Schiavetto, Cortese, and Alain 1999; Sperry, Gazzaniga, and Bogen 1969; Nebes and Sperry 1971; Gazzaniga and Hillyard 1971; Bogen 1969). Редукционный оператор явно связан с нашими дедуктивными способностями, за которые, как принято думать, отвечает левая височно-теменная область (Luria 1966; Basso 1973). Абстрагирующий оператор, скорее всего, находится в левой нижней части теменной доли (вероятно, в области угловой извилины), он формирует важную часть «речевой оси» (Luria 1966, Geschwind 1965; см.: также Joseph 1996). Происхождение количественного оператора, похоже, сложнее, чем мы думали раньше, поскольку, по-видимому, здесь задействованы как левая, так и правая нижние теменные области. Обычно конкретно математические функции связывают с работой левого полушария, тогда как правое полушарие обладает способностью лучше сравнивать цифры. Подробнее о количественных способностях мозга см.: в работе Dehaene 2000, где автор говорит, что «данные исследований получения, понимания и подсчета чисел указывают на то, что здесь мы имеем дело с модулярной организацией». Наша концепция когнитивного оператора указывает на более глобальное явление, хотя, вероятно, оно складывается из отдельных конкретных модулей, участвующих в обработке количества, см.: Pesenti et al. 2000. Наличие казуального оператора подтверждает широкий ряд сравнительно более старых исследований (Pribram and Luria 1973, Mills and Rollman 1980, Swisher and Hirsch 1971). Недавно одно исследование (Wolford 2000) продемонстрировало, что люди начинают искать последствия таких событий, о которых им сказали, что эти события носят случайный характер. Как было доказано, это преимущественно функция левого полушария. Бинарный оператор, похоже, носит более абстрактный характер (Murphy and Andrew 1993) и, возможно, расположен около количественного оператора в нижней части левой теменной доли (Gardner et al. 1978, Gazzaniga and Miller 1989). Эта же область, вероятно, отвечает за представления о «больше, чем» или «меньше, чем» относительно чисел (Dehaene 2000). Никто до нас не оставил описаний экзистенциального оператора, но, похоже, он представляет собой важный аспект человеческого восприятия. Сам факт, что мы верим в существование воспринимаемого нами объекта, быть может, указывает на самую фундаментальную функцию мозга, которая может дать сбой в случае галлюцинации или может быть использована фокусником, чтобы нас одурачить. Если говорить об операторе эмоциональной ценности, многие данные о значении эмоций для поведения и мышления человека дают нам исследования Antonio Damasio (1994, 1999). Из его гипотезы соматического маркера следует, что эмоции жизненно важны для принятия людьми решений и рационального мышления. Мы согласны с тем, что оператор эмоциональной ценности, как мы его называем, имеет определяющее значение для того, как мы упорядочиваем мир и как к нему относимся. Кроме того, эмоции необходимы для определения сравнительной ценности всех других продуктов когнитивных операторов. Если говорить о религиозном переживании, существует мнение, что «седалищем души» является лимбическая система, потому что она указывает на эмоциональную ценность, то есть силу различных переживаний, и она маркирует их как «духовные» (Joseph 2000, Saver and Rabin 1997). Наша модель также позволяет признать критическую важность лимбической системы для определения ценности некоторых переживаний и, быть может, даже для оценки того, насколько они реальны. Значение этого положения мы покажем далее. Пока достаточно сказать, что лимбическая система, на которой основывается работа оператора эмоциональной ценности, имеет определяющее значение для того, как мы упорядочиваем мир и как к нему относимся. Ее сфера деятельности не ограничивается только «иррациональными» идеями, но включает в себя также и рациональные.
68
Обсуждение исследований, посвященных способностям младенца совершать арифметические действия, – см.: Bryant 1992.
69
Подробное обсуждение данного эксперимента – см.: Spelke et al. 1992.
70
Damasio 1999.
71
Существует масса археологических находок, указывающих на религиозную деятельность или, по меньшей мере, на представления о жизни после смерти, эти находки связаны с погребением (Belfer-Cohen and Hovers 1992, Butzer 1982, Rightmire 1984, Smirnov 1989). Захоронения, свидетельствующие о такой деятельности, можно найти в разных частях Европы и Азии, что говорит о широком распространении подобных практик. Подробнее о них см.: Joseph 2000.
72
См.: Kurten 1976 and Joseph 2000.
73
Campbell 1972.
74
Ibid.
75
Особого интереса заслуживает тот факт, что для оценки опасной ситуации на высшем уровне мышления, конечно же, необходим доступ к воспоминаниям о травматических событиях прошлого, которые связаны с лимбической активизацией в ответ на актуальную ситуацию. Любопытно, что как для памяти, так и для лимбической функции важнейшим посредником является миндалевидное тело, часто действующее совместно с гиппокампом. Подробнее об этом см.: Damasio 1999, Joseph 1996, and LeDoux 1996.
76
Социальные связи обусловлены не только стремлением адаптироваться, но это – потребность, вложенная в мозг человека, о чем свидетельствует тот факт, что все младенцы страстно желают контактировать с людьми. Причем это желание направлено не только на маму, но и на всех людей, оказавшихся рядом с малышом. Кроме того, если животное растет в социальной изоляции, оно пытается установить социальный контакт с неодушевленными предметами или даже с хищниками (см.: Harlow 1962, Cairns 1967).
77
Как и в случае с когнитивными операторами, когнитивный императив не есть какой-то самостоятельный изолированный феномен, но он основывается на способности мозга почти автоматически упорядочивать мир. Иными словами, мозг, в отличие от компьютера, невозможно выключить. Он работает всегда, даже во время сна.
78
Впервые концепцию когнитивного императива использовал d’Aquili в 1972 году. Когнитивный императив имеет ряд особенностей. Сюда входит разочарование перед лицом новых данных, которые не относятся к привычной категории, что, как было показано, порождает тревогу. Фактически, как продемонстрировали исследования, мозг высших организмов стремится найти равновесие между новизной и привычными вещами (Berlyne 1960, Suedfeld 1964). Когда нового слишком много, мозг пытается привести поступающие импульсы в соответствие с более простыми категориями. Вместе с тем недостаток новизны вызывает у мозга застой и вынуждает его генерировать неопределенность или усложнять картину. О наличии когнитивного императива свидетельствует и тот феномен, который некоторые ученые называют онтологическим желанием – стремление понять фундаментальную природу мира (см.: Larson, Swyers, and McCullough 1997). Кроме того, по утверждению антрополога Misia Landau (1984), для преодоления тревоги, порожденной когнитивным императивом, нам нужны «основополагающие истории, или глубинные структуры, позволяющие организовать наш опыт». Наконец, E. O. Wilson (который цитируется у Shermer 2000) говорит, что изложение историй включает «в игру все когнитивные и эмоциональные схемы, которые имеют прямое отношение к реальным переживаниям». Таким образом, в силу действия когнитивного императива мы неизбежно организуем окружающий мир и наш опыт мира, создавая истории и, в итоге, мифы, которые помогают нам осуществлять эту функцию.
79
Подробное описание такой схемы мифов – см.: d’Aquili 1978, 1983; d’Aquili and Newberg 1999.
80
Подробнее об эволюции головного мозга человека и его отличии от мозга других приматов см.: Preuss 1993, 2000.
81
Мы можем изучать строение мозга первых гоминидов только с помощью отпечатков с внутренней стороны черепа (см.: LeGros Clark 1947, 1964; Holloway 1972). Извилины и следы соответствующих структур косвенно указывают на то, как устроены другие близлежащие участки мозга. Тем не менее некоторые исследователи утверждают, что такой метод не позволяет судить о строении мозга или функциях, которые он мог выполнять (Jerison 1990).
82
Похоже, ни у других приматов, ни у предков человека из семейства гоминидов не была в нужной степени развита внутренняя теменная зона (зона Вернике), которая поддерживает речь и вербальное поведение у человека. Такой вывод можно сделать на основании изучения анатомии существующих ныне видов приматов, а также исследования отпечатков внутренней поверхности черепов предков человека (Holloway 1972, Joseph 1993). Следует заметить, что у некоторых приматов (например, у макак) существуют структуры, аналогичные теменной доле человека (Galaburda and Pandya 1982). Тем не менее эти структуры не обладают нужной степенью сложности и связями с другими зонами, которые позволили бы им обеспечивать функцию речи.