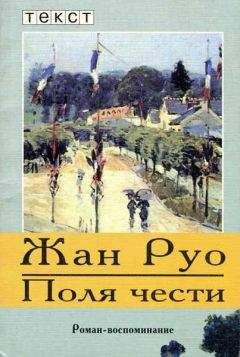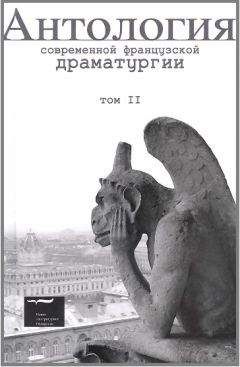Жан Ролен - …А вослед ему мертвый пес: По всему свету за бродячими собаками
Тихуана — это тот самый мексиканский город на границе с Соединенными Штатами, где разворачивается действие фильма Орсона Уэллса «Печать зла». Тихуанскую свалку Коппинджер живописует такой, как она впервые предстала его взору, наподобие Небесного Иерусалима, позлащенная косыми лучами заката, сверкая и переливаясь мириадами металлических упаковок, пластиковых пакетов и бутылок, причем эта гора отходов, пронизанная воздуховодами для отвода газа, издавала зловоние, напоминающее ужасы Судного дня, а по ее склонам деловито елозили моторизованные механизмы всякого рода, то группами, то порознь сновали на своих двоих люди; здесь же суетились тысячи птиц и сотни собак. В описании Коппинджера упомянуты сообщества людей и собак, что встречаются на этой свалке, причем автор подразделяет их на несколько различных категорий и анализирует сложившиеся между ними отношения. Помимо работников на жалованье — водителей грузовиков, доставляющих отходы, и транспортных средств, занятых их размещением, трамбовкой и захоронением, а также служащих, которым поручено наблюдение за выделением газа, происходящим вследствие разложения органических веществ, и т. д. — свалка служит приютом некоторому числу бездомных, избравших ее местом своего постоянного жительства, она притягивает и всяких подонков со стороны, которые приходят сюда, что ни день, и подчас могут конкурировать с местными обитателями, в чем-то ущемляя их интересы.
Что до собак, посещающих свалку, между ними, согласно наблюдениям автора, существует социальное расслоение, сопоставимое с тем, что можно заметить у людей. Коппинджер делит этих собак на три группы. На низшей ступени — нечистые (unclean), те, что живут и плодятся на свалке, иногда они сбиваются в группы на время сна, но обычно рыщут поодиночке в поисках пропитания. Не в пример чайкам и прочим гадальщикам, они поддерживают с человеком отношения «классического комменсализма», зависят от него, сами того не сознавая и не принося ему никакой пользы. Вторая группа состоит из собак, приходящих сюда извне, самостоятельно или вместе со сборщиками мусора, в поисках дополнительного корма и условий для размножения. И наконец, Коппинджер выделяет третью группу, собак «в кожаных ошейниках», как правило породистых, сторожевых или бойцовых, — ротвейлеров и питбулей. Эти последние, получая от своих хозяев вдоволь корма, на свалку забегают разве что играючи, приобретая при таких обстоятельствах возможность растрачивать попусту куда больше энергии, чем могут себе позволить первые две группы, и, в частности, проявлять повышенную агрессивность.
Хотя Коппинджер посетил эту свалку с целью снять фильм, иллюстрирующий его концепцию относительно происхождения собак, он и сам признает, что условия Тихуаны наших дней слишком резко отличаются от тех, что могли иметь место в эпоху мезолита, под каким бы углом зрения ни рассматривать тот период, и следовательно, если приходится удовлетвориться таким примером, демонстрация не будет стопроцентно доказательной.
«Что мне требуется, — пишет он, — так это место уединенное (remote), где люди, живущие охотой и собирательством, обитают в селениях, чья изолированность от внешнего мира гарантирует, что тамошние собаки на протяжении долгого времени не портились (corrupted) притоком новых генов».
Это место, где он мог вживе наблюдать «современную версию самобытной собаки» и изучать отношения этой разновидности с человеком, Коппинджер, как он полагает, обрел на острове Пемба, расположенном в Индийском океане на широте Танзании, в административном отношении к ней же принадлежащем. В какой мере (даже со всеми оговорками) допустимо рассматривать жителей острова как образцовых охотников-собирателей — это из рассказа о похождениях Коппинджера явствует не слишком вразумительно. Однако, посетив остров Пемба в самом конце XX столетия, он во всяком случае констатировал, что тот воистину кишит собаками (loaded with dogs) и они сверх того демонстрируют отменное морфологическое единообразие, ни в коем случае не являются брошенными или бродячими домашними животными, а в полной мере (по крайности с его точки зрения) «потомками первых собак, ставших домашними (или комменсальными) рядом с человеком эпохи мезолита».
24
Когда мы с Джоном взошли на борт «Серенгетта», одного из судов, обеспечивающих сообщение между Занзибаром и Пембой, уже совсем стемнело. Посадка происходила при условиях несусветных: пассажиры, слишком многочисленные и перегруженные багажом, толкались на узком, шатком забортном трапе, между тем как экипаж делал, казалось, все, что было в его силах, чтобы сбросить их в воду или на худой конец вытеснить обратно на причал, так что я при виде этого предложил отступить, немного прогуляться, переждать. Но Джон, со своей стороны, считал, что мы забрались достаточно далеко, чтобы не поворачивать вспять, и надо прорываться вперед.
Не успели мы взобраться на борт, как нас всех — несколько сот человек — загнали в помещение, все входы которого были тотчас же заперты с целью прищучить контрабандистов, исключение составляла единственная узкая дверь, в которую насилу можно было протиснуться вдвоем. Если бы вдруг начался пожар или корабль стал тонуть (а притом казалось неизбежным, что это с ним случится с минуты на минуту), пассажиры, даже не успев изжариться или захлебнуться, были обречены передавить друг друга, устремившись всем скопом к единственному выходу.
Когда «Серенгетт» вышел из-под защиты Занзибарской дамбы, он угодил в сильную бурю, которая, набирая силу, бушевала над всем Индийским океаном, при каждой новой атаке шторма судно вставало на дыбы — ни дать ни взять «Льемба» в лживых россказнях проповедника-пятидесятника — и вибрировало, гремя всем своим железом. В запертом зале самым везучим из пассажиров удалось уцепиться за привинченные к полу стулья, даром что в большинстве они никуда уже не годились (в их щелях кишели тараканы), прочие улеглись на пол, покрыв его сплошь, как черепица; в такой тесноте малейшее движение одного, если он, например, переворачивался на другой бок, могло, того гляди, передаться даже в самые отдаленные концы помещения.
Джон, вероятно поддерживаемый верой, весь пыл которой он сохранял наперекор своему отказу от роли пастыря, умудрился заснуть почти тотчас после отплытия. Что до меня, мне все-таки удалось подремать достаточно долго, чтобы здесь, на борту «Серенгетта», увидеть следующий сон. Некто, обретавший то физиономию Златко Диздаревича, то черты его кузена (первый во время осады Сараева исполнял в этом городе обязанности главного редактора газеты «Освобождение», второй олицетворял там Хельсинский комитет по правам человека), привел меня в пустой театр, чья полукруглая сцена была на диковинный манер отгорожена красным занавесом не от зрительного зала, как обычно, а от кулис или, вернее, поскольку кулис как таковых там не было, от вогнутой перегородки, которая ограничивала сцену по другую сторону от публики; занавес, достигая этой перегородки, повторял ее изгиб. Из-под края занавеса торчала собачья лапа, самого животного было не видно, этой лапой оно силилось подгрести к себе лежащую на подмостках большущую кость (возможно, ту самую, которую Гроссман видел в собачьей пасти среди калмыцкой степи), а между тем другой пес, этот принадлежал к мезолитическому типу, то есть имел желтоватый окрас и средние размеры, молчаливо и неподвижно застыл посреди сцены, словно был живым укором для всех нас. Наверное, потому, что и тот и другой выглядели домашними животными, по крайней мере, их можно было принять за таковых, у меня возникло искушение сопоставить свой сон с тем, о котором несколько дней тому назад мне по телефону рассказывала Кейт: ей снилось, что она в обществе своей матери находится на плывущем или дрейфующем по морю плоту и вдруг видит, что из-под поверхности воды на нее смотрят глаза бесчисленных котят — их уносит течением, и она, сколько ни старается, не может спасти ни единого, каждый котенок, которого удается вытащить, тотчас выскальзывает из ее рук, чтобы снова кануть в море.
Самый большой город острова — Чак-Чак, Коппинджер описывал его свалку, с тех пор успевшую переместиться, почти с таким же восторгом, как Тихуанскую. Еще не успев даже обосноваться в гостинице «Пемба Айленд», мы были атакованы молодым человеком по имени Амис, утверждавшим, что ему досконально известны все места, где водятся собаки (если бы мы проявили интерес к обезьянам, нет сомнения, что и по этой части его осведомленность и готовность к услугам оказались бы ничуть не меньше). Первой достопримечательностью, которую мы посетили в первый же вечер, была прежняя резиденция занзибарского султана, отрешенного от власти и отправленного в изгнание вскоре после объявления независимости, каковое явилось следствием революции, сопровождаемой погромом (или погрома, обряженного в пестрые революционные лохмотья).