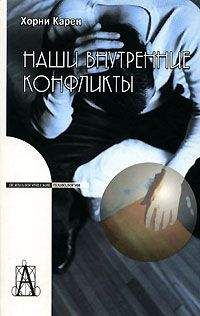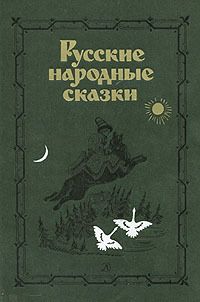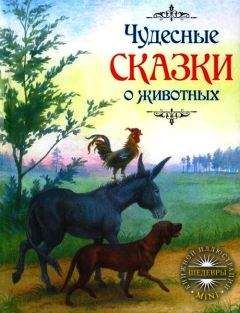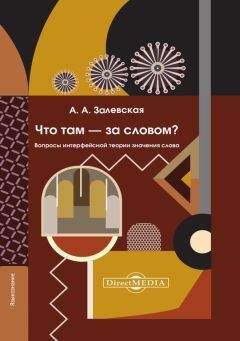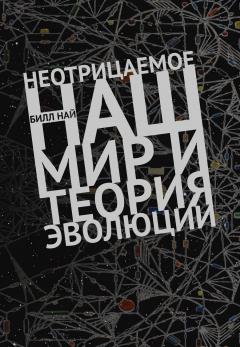Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения - фон Икскюль Якоб
Являются ли рецепторные органы животных продуктами их внешнего телесного рубежа или внутреннего нетелесного рубежа их восприятия?
Поскольку у человека за соединение внешнего рубежа с внутренним отвечают именно органы чувств, можно допустить, что они должны выполнять такую же задачу и у животных и потому обязаны своим строением как внешнему, так и внутреннему рубежу.
Рецепторные органы нельзя рассматривать лишь как продукт внешнего рубежа, убедительное доказательство чему мы можем найти у рыб, которые, хотя и соприкасаются лишь с растворимыми в воде веществами, имеют тем не менее, наряду с органом вкуса, ярко выраженный орган обоняния. И напротив, птицы лишены органа обоняния, в то время как условия их существования, казалось бы, более благоприятны для формирования обоих органов.
Мы лишь тогда сможем понять строение всего организма, когда нам станет ясна задача органов чувств. По отношению ко внешнему рубежу они служат фильтром, сквозь который проходят химико-физические воздействия внешнего мира. В нервное возбуждение преобразуются лишь те воздействия, которые имеют значение для животного субъекта. В свою очередь, благодаря нервным импульсам в мозгу пробуждаются сигналы восприятия внутреннего рубежа. Таким образом, внешний рубеж также влияет на внутренний и определяет, какое количество сигналов зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса может быть допущено в функциональные круги того или иного животного субъекта.
От этого зависит и структура окружающих миров, ибо каждый субъект может преобразовать в воспринимаемые признаки своего окружающего мира лишь те сигналы восприятия, которые доступны для него.
При рассмотрении большого количества картин одного художника принято говорить о его «палитре», то есть о наборе красок, которые были в его распоряжении, когда он писал свои полотна.
Эти связи, вероятно, станут еще яснее, если мы представим себе, что каждая воспринимающая клетка мозга благодаря своей индивидуальной тональности заставляет звучать определенный сигнал восприятия. Язык каждого из этих живых колоколов связан с внешним рубежом лишь при помощи нити нервов, и именно здесь решается, какие внешние раздражители будут преобразованы в звук, а какие — нет.
Звуки-субъекты живых клеточных колоколов связаны друг с другом ритмами и мелодиями, которые и обеспечивают их звучание в окружающем мире.
Благодаря наблюдениям Матильды Герц [65] мы можем предположить, что пестрый пучок сигналов хроматического восприятия у пчел, связанный с той же шкалой световых волн, что и у человека, смещен на одну позицию в сторону фиолетового. Внешний рубеж пчелиного глаза не совпадает со внешним рубежом человеческого глаза, в то время как их внутренние рубежи представляются аналогичными. У нас до сих пор нет ясного представления о значении этого смещения.
И напротив, у мотыльков значение палитры сигналов восприятия твердо определено. Фридрих Эггерс [66] продемонстрировал, что в органе слуха этих животных роль резонаторов выполняют две натянутые перегородки. Благодаря этим средствам им удается реагировать на колебания воздуха, представляющие для человеческого уха верхнюю границу слуха. Эти звуки соответствуют писку летучей мыши, которая является главным врагом мотылька. Мотыльки воспринимают только те звуки, которые издают их персональные враги. Весь остальной мир для них беззвучен.
В окружающем мире летучих мышей писк позволяет различить в темноте себе подобных.
В одном случае этот звук достигает уха летучей мыши, в другом — органа слуха мотылька. В обоих случаях пищащая летучая мышь выступает как носитель значения — то «дружеского», то «вражеского», — в зависимости от усвоителя значения, с которым она взаимодействует.
Поскольку палитра сигналов восприятия летучей мыши обширна, помимо этого высокого звука, она может уловить и множество других. Палитра же сигналов восприятия мотылька очень скудная, и в его окружающем мире существует лишь один-единственный звук — звук врага. Писк — это весьма простое произведение летучей мыши, паутина паука — это произведение искусное. Однако между ними есть одно сходство: оба произведения настроены не на конкретный телесно явленный субъект, а на всех животных одинакового строения.
Но каким образом аппарат в строении мотылька улавливает звук летучей мыши? В правиле развития мотылька изначально предусмотрено формирование слухового органа, настроенного на писк летучей мыши. Нет никаких сомнений в том, что здесь мы имеем дело с правилом значения, которое воздействует на правило развития с той целью, чтобы носитель значения соединился с усвоителем значения и наоборот.
Как мы уже видели, правило развития наделяет травоядного головастика роговым клювиком, а плотоядного тритона — пастью с настоящими зубами. И здесь и там с самого начала закон значения решающим образом воздействует на формирование зародыша и обеспечивает возникновение на правильном месте органа для усвоения правильной, растительной или животной пищи, представляющей собой соответствующий носитель значения. Но если правило развития сбивается с верного пути из-за имплантации, правило значения уже не может вернуть его в прежнее русло.
Таким образом, от правила значения зависит не само активное развитие, испытывающее воздействие значения, а лишь правило развития в его целостности.
6. Правило значения как связующее звено между двумя элементарными правилами
Когда, прогуливаясь по лесу, мы поднимаем с земли желудь, упавший с могучего дуба и, быть может, сорванный и принесенный сюда белкой, мы понимаем, что из этого растительного зародыша впоследствии образуются клетки различных тканей, часть из которых в соответствии с правилом развития, характерным для дуба, станет основой для формирования подземной корневой системы, а часть — надземного ствола с его кроной.
Мы также осознаем, что уже в желуде сокрыты зачатки органов, которые позволят дубу вести борьбу за существование, противостоя тысячам типов воздействия внешнего мира. Мы можем вообразить себе, как в будущем дуб будет противостоять дождям, бурям и палящему солнцу. Мы видим, как он будет переносить грядущие зимы и лета.
Чтобы выдержать все воздействия внешнего мира (Außenwelt), разрастающиеся тканевые клетки желудя должны образовать органы — корни, ствол и улавливающую солнечные лучи крону, листья которой развеваются на ветру, как легкие флажки, тогда как узловатые ветви противостоят ему. Крона служит для дерева и своего рода зонтом, благодаря которому ценная небесная влага поступает под землю, питая тонкие кончики его корней. В листьях содержится чудесное вещество — хлорофилл, который использует солнечные лучи, чтобы превратить энергию в материю.
Зимой, когда промерзшая земля препятствует притоку к кроне жидкости, насыщенной почвенными минералами, листва опадает.
Все эти будущие влияния окружающей среды на будущий дуб никак не могут оказать каузального воздействия на его развитие. На это в равной степени не способны и влияния внешнего мира, некогда коснувшиеся дуба, на котором вырос желудь, поскольку в период их действия желудя еще не существовало.
Так в связи с желудем мы оказываемся перед той же загадкой, что и при рассмотрении любого зародыша у растений или яйца у животных. Мы не вправе говорить ни о каком каузальном влиянии внешних факторов на объект в его пред- и постсуществовании. Каузальная закономерность вступает в силу лишь тогда, когда причина и следствие сходятся в одной точке времени и в одном месте.
Совершенно невозможно найти решение проблемы, если искать ее в далеком прошлом. Желудь, существовавший миллион лет назад, так же труден для нашего понимания, как и желудь, который вырастет спустя сотни тысяч лет.
Из этого следует, что нас завела в тупик сама постановка вопроса, ибо мы рассчитывали на то, чтобы выстроить звенья причинной связи между желудем-зародышем и физико-химическими воздействиями внешней среды, прибегая к искусственным построениям. Перед нами проблема, которую нельзя решить механическим способом, опираясь на историю происхождения видов.