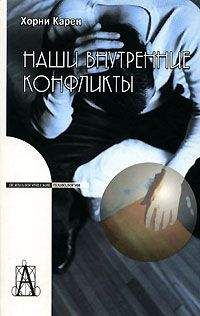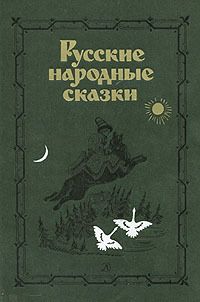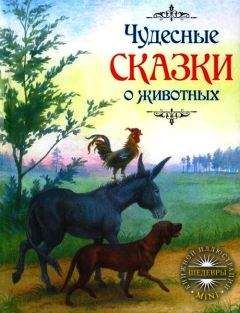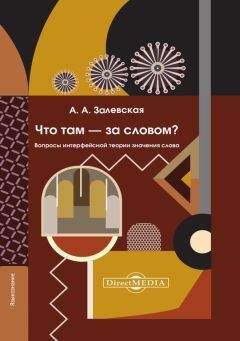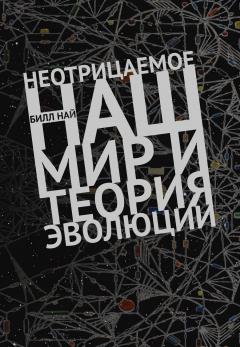Путешествие в окружающие миры животных и людей. Теория значения - фон Икскюль Якоб
Что же, однако, со второй возможной интерпретацией теории субъективности Канта? Она имеет форму трансцендентальной, а не психологической интерпретации и была развита в позднем неокантианстве (Пауль Наторп) и в какой-то мере в феноменологии Эдмунда Гуссерля после его трансцендентального поворота. Если ее предельно упростить, то она заключается в том, что познающий субъект не является собственно биологическим существом. Любое существо, перед которым могла бы возникнуть проблема познания, пришло бы к формированию инструментов и элементов, родственных человеческой науке, используя логику, математику, эксперимент, модели пространства и времени и т. д. У Гуссерля близкая идея выражена иным образом: восприятие и познание мира сущностно сходно для всякого сознания интенционального типа: так, Бог не имел бы никаких преимуществ перед человеком в познании вещей внешнего мира [13]. Применительно к работам Икскюля напрашивается в этом контексте следующий вопрос: не стоит ли предположить, что всё же существует возможность заглянуть за пределы своего «мыльного пузыря» и открыть перспективу окружающих миров других существ? Очевидно, что работы самого Икскюля открывают нам именно такую возможность: они дают нам объяснение (в «Путешествиях» часто сопровождаемое иллюстрацией), позволяющее до определенной степени понять поведение самых разнообразных существ — от клеща и астронома до девушки и коровы. Икскюль не может обойти этот вопрос и обращается к нему в финале обеих публикуемых здесь работ. В «Путешествии» его критический ответ на возможность расширения горизонта человеческих окружающих миров заключается в том, что у самих ученых, представителей разных дисциплин, они различны: «…роль, которую играет природа как объект в разных окружающих мирах естествоиспытателей, глубоко противоречива. Если мы попытаемся охарактеризовать ее объективные свойства, получится хаос». Это соображение является глубоко скептичным и может быть прочитано как выражение культурного кризиса научного миропонимания начала XX века, которое погружается в состояние всё большей дисциплинарной фрагментации и специализации, утрачивая роль интегрирующего мировоззрения, каким оно еще выступало в конце XIX столетия [14]. В заключении «Теории значения» Икскюль вновь возвращается к этому фундаментальному философскому вопросу, в той или иной форме пронизывающему все современные научные дисциплины и философские дискуссии [15]: «Хотя мы можем при помощи постоянно совершенствующихся аппаратов постигать все вещи, при этом мы не получаем нового органа чувств, и все свойства вещей, даже если мы разлагаем их на мельчайшие частицы — на атомы и электроны, — всегда остаются лишь воспринимаемыми признаками наших чувств и представлениями». Хотя это более оптимистичная позиция, Икскюль продолжает ограничивать возможности человеческого познания его сенсуалистической и психологической перспективой, оставляя нас в пределах человеческого «мыльного пузыря» [16]. В другом месте «Теории значения» он замечает в этой же связи: «Очевидно, что мы способны возвыситься над собой не посредством расширения пространства нашего окружающего мира на миллионы световых лет, но посредством знания того, что некий всеохватный план подразумевает существование вне нашего личного окружающего мира окружающих миров наших собратьев — животных и других людей». Это высказывание, с одной стороны, соответствует одной из ключевых идей Леопольда фон Ранке, выбранных Икскюлем, чтобы сформулировать свое отношение к теориям биологического прогресса («каждая эпоха стоит в непосредственном отношении к Богу»), с другой — вступает в перформативное противоречие с картиной окружающих миров других животных и людей, рисуемых самим его автором, равно как и с той теорией, которая за ней стоит. Чего стоит только вот эта прекрасная формулировка Икскюля в пользу этой теории: «Если мы попытаемся взглянуть на воздействия окружающего мира с точки зрения самого дуба, то вскоре обнаружим, что они подчинены общему природному правилу». Выразительные рисунки, сопровождающие текст работы о путешествиях в окружающие миры животных и людей, дают нам представление о еще одном ограничении нашей способности взглянуть на мир глазами других существ. Пытаясь описать метафорами и аналогиями картину восприятия морского ежа, автор в конце концов безнадежно резюмирует: «Изобразить это невозможно технически». Этот вывод Икскюля, как мне кажется, отложился в научной культуре биологов, несмотря на отсутствие его самого в научном горизонте львиной доли современных ученых. Когда в процессе подготовки этого текста я консультировался по поводу тонкостей его примеров с морскими ежами у одного из наших квалифицированных морских биологов, он почти буквально воспроизвел эту цитату, заметив: «Мы не представляем, как мыслит морской еж».
Как мы видим, Икскюль не совсем последователен в своей собственной позиции о возможности «перевода» различных окружающих миров, что ведет — даже если ограничиться кругом только миров человеческих — вглубь проблематики релятивизма во всех его многообразных исторических, культурных и политических изводах, в которую здесь не место вдаваться.
Тезис о том, что Икскюль в философско-теоретическом плане является последователем Канта, является общим местом в его интерпретации. Но стоит заметить, что это влияние всё же ограниченно в ключевом моменте: Икскюль не разделяет основной пункт представлений Канта о специфике живых организмов как систем, описываемых в терминах целей и средств [17], хотя и согласен с ним в том, что живое создание нельзя объяснить посредством «механической» закономерности. Икскюль явно избегает даже употребления понятия «организм», оно не входит в число основных концептов его теории, что явно противопоставляет его традиции органицизма, берущей начало в немецкой классической философии. Его позиция последовательно антидарвинистская, но далее он, скорее, колеблется: в его работах присутствуют элементы и телеологии (без которой Кант считал невозможным регулятивное понимание природы организмов), и креационизма («композитор», стоящий за дизайном живых существ), и витализма в духе Ганса Дриша, признающего за жизнью наличие особого типа причинности (Eigengesetzlichkeit) [18]. В целом Икскюль находится в той традиции мысли, которая противостоит механистическому монизму и рассматривает жизнь как сферу, где действуют собственные закономерности, но всё же не ограничивается простым (можно сказать — слишком простым) постулированием особой «жизненной силы». Он стремится найти третий путь — между дарвинизмом и витализмом — с опорой на стандартные научно-экспериментальные методы.
Еще один момент, который представляется мне актуальным в работах Икскюля, связан с окружающими мирами, но придает ему новое измерение. Какие бы оговорки он ни делал по поводу ограниченности человеческой способности постигать другие миры, он сам приглашает к путешествию и прогулкам по ним. И это путешествие основано на внимательном эмпирическом наблюдении и остроумном экспериментировании, стремящемся понять причины поведения тех или иных существ. В этом Икскюль следует за «Энтомологическими воспоминаниями» Жана Анри Фабра (в России традиционно публикуются избранные тексты этого десятитомного издания — «Жизнь насекомых»), ряд кейсов которого являются для него излюбленными примерами. Экспериментируя и наблюдая в своем небольшом саду в Провансе на протяжении многих десятилетий, Фабр, писавший вполне доступным языком [19], открыл читающей публике странный и сложный мир крохотных существ, от которых, за исключением разве что бабочек, люди привыкли лишь отмахиваться. Фабр по-домашнему вводит нас в жизнь своих насекомых, например описывая свое отношение к ним во время тяжелой болезни: «Когда из мрака бессознательности стали проступать моменты ясности, первой моей мыслью было желание проститься с моими перепончатокрылыми, давшими мне мои лучшие радости, и прежде всего с моим соседом галиктом» [20]. С такой же теплотой и проницательностью Икскюль открывает перед читателями множество окружающих миров различных существ, для обозначения которых он выбирает метафору сада, наполненных для нас поначалу совершенно загадочными символами: «Если мы будем перебирать в нашем уме окружающие миры, то мы обнаружим в садах, расположенных окрест телесных домов, субъектов, самые причудливые создания, служащие носителями значений, понимание которых нередко представляет большие трудности. Из-за этого создается впечатление, что носители значения являют собой тайные знаки или символы, которые понятны только индивидам одного вида, оставаясь совершенно непонятными для представителей чужих видов». Тем не менее кропотливое наблюдение и изобретательный эксперимент позволяют разгадать эти тайные знаки и понять причины или мотивы действий существ (последнее, разумеется, возможно в случае тех, у кого они могут быть). Икскюль, не будучи теоретическим доктринером, не всегда последователен. Так, он борется с антропоморфным понятием «цель» в биологии, хотя и не отказывается вполне от элементов телеологии. Однако на основании приведенных описаний окружающего мира даже такого создания, как инфузория-туфелька — существа, не обладающего, видимо, восприятием пространства и времени в каком-то доступном для нас смысле, — мы всё же понимаем его жизненный «план» (термин, которым Икскюль, насколько я понимаю, полемически заменяет ключевое понятие Фабра «инстинкт»).