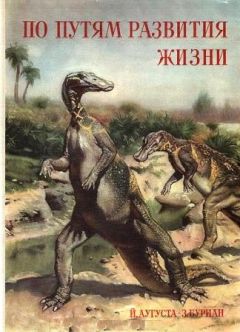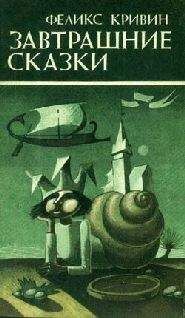Мэри Роуч - Путешествие еды
Бомонту было 37 лет, и он был не прочь подыскать для себя нечто менее унылое, чем немудрящие обязанности безвестного внештатного хирурга-ассистента на службе в военном форпосте. Когда именно он в полной мере осознал всю ценность дыры в животе Сент-Мартина и насколько тщательно старался закрыть ее или же оставить открытой – все это из области предположений. Единственным очевидцем событий того утра был человек по имени Гердон Хаббард. В оставленных им воспоминаниях есть намек на то, что Бомонт уловил самое главное раньше, чем сам заявлял об этом впоследствии. «Я хорошо знаю доктора Бомонта, – сообщает Хаббард. – Вскоре после первого осмотра он вбил себе в голову, что будет экспериментировать, вводя пищу в желудок через возникшее у пациента отверстие, которое поэтому и следовало держать открытым».
Бомонт все отрицал. В своем дневнике наблюдений он пишет, что предпринимал «все усилия, чтобы добиться зарастания отверстия в желудке». Думаю, истина находится где-то посередине. Чуть ближе к версии Хаббарда – и можно с определенной долей уверенности судить о том, почему Бомонт, приводя в недоумение окружающих, сделался столь предан человеку, которого прежде в глаза не видел и судьбой которого должен был, по праву рождения и положения в обществе, интересоваться весьма мало. Сент-Мартин был, как тогда говорили, mangeur du lard – «едоком свинины» и простым проводником, то есть принадлежал к низшему классу. Тем не менее, когда в апреле 1823 года возможность оплачивать пребывание Сент-Мартина на больничной койке завершилась, Бомонт взял парня к себе в дом. В своем дневнике наблюдений врач объяснил, что поступил так «исключительно из милосердия». Боюсь, это весьма сомнительно.
Едва Сент-Мартин достаточно окреп, его стали использовать для работы по дому. С самого начала всей истории Бомонт держал фистулу под пристальным наблюдением – порой, в буквальном смысле. «Когда он лежал на другом боку, – пишет он в своем дневнике наблюдений, – я смог заглянуть в полость желудка и, в сущности, наблюдал процесс пищеварения». Я бы не отказалась побывать при первом оглашении протокола этого эксперимента. Сент-Мартин понятия не имел о научных методах. Он был неграмотным и плохо говорил по-английски, объясняясь с окружающими на местном диалекте канадского французского – да еще и с таким акцентом, что Бомонт в своих заметках, сделанных непосредственно в день несчастливого выстрела, записал его фамилию как «Самата». Да, врач вел дневник. Но ни я, ни эксперт по медицинской этике Джейсон Карлавиш, написавший чудесный роман, с детективной точностью исследующий историю этой пары, не нашли ни единого упоминания о реакции самого Сент-Мартина на свое положение.
В книге «Истинная этика: Уильям Бомонт, Алексис Сент-Мартин и медицинские исследования в предвоенной Америке» историк Алекса Грин объясняет отношения между двумя мужчинами просто: один – хозяин, второй – слуга. Если некто желает просунуть вам между ребер немного баранины, вы должны позволить ему это сделать. Все остальное – обязанности по предписанию. (Когда Сент-Мартин поправился настолько, что стал понимать, какая уловка кроется за обещанием обеспечивать для него постоянную медицинскую помощь, Бомонт положил ему жалование.)
Для двух человек, столь далеких друг от друга в социальном и профессиональном смысле, отношения между Бомонтом и Сент-Мартином были необычайно близкими. «При введении кончика языка через отверстие и прикосновении им к слизистой оболочке желудка, когда тот был пустым и в спокойном состоянии, кислый вкус не ощущался»[58]. Единственное изображение молодого Сент-Мартина в полный рост я нашла на картине Дина Корнвелла «Бомонт и Сент-Мартин». Картина входила в серию «Пионеры американской медицины», выпущенной в свет в 1938 году в рамках рекламной кампании, проводившейся лабораториями компании Wyeth[59]. Если не принимать во внимание дурацкую прическу с коротко подстриженными по сторонам локонами, которую Сент-Мартин упрямо носил всю жизнь, человек на картине Корнвелла обладает примечательной внешностью: широкоскулый, с прямым римским носом, мускулистый, с загорелыми грудью и руками. Бомонт выглядит лихо, но и щеголевато. Шевелюра у него пышная, и волны волос легли так странно, что чем-то напоминают полосы, выдавленные на поверхность торта из шприца для крема.
Для исследования пищеварительных возможностей за пределами тела Бомонт заставлял Сент Мартина держать пузырьки с желудочным соком под мышками – чтобы приблизить эксперимент к естественным температурным условиям или имитировать движение стенок желудка.
Картина кисти Корнвелла создана в форте Кроуфорд на Мичиганской территории около 1830 года, когда Сент-Мартин был нанят Бомонтом на второй срок службы. На том этапе своего исследования пищеварения Бомонт пытался выяснить, сможет ли действовать как обычно желудочный сок, изъятый из желудка и оторванный от телесной «жизненной силы». (Да, может.) Бомонт наполнял секрециями Сент-Мартина пузырек за пузырьком и погружал туда различные виды пищи. Кабинет стал напоминать небольшое производство по сбору желудочного сока. На одной из картин Бомонт держит эластичную резиновую трубку, одним концом всунутую в живот Сент-Мартина, в то время как из другого ее конца что-то каплет в бутылочку на коленях хирурга.
Я провела немало времени, не отрывая глаз от этой картины и стараясь понять, что же все-таки связывало этих двоих? Посмотришь – между ними пропасть. На Сент-Мартине – дунгари[60] из грубой хлопчатобумажной ткани, протершейся на коленях. Бомонт – в полной военной форме: мундир с эполетами и латунными пуговицами, бриджи в обтяжку, заправленные в кожаные сапоги до колен. «Да, – как будто говорит нам Корнвелл, – положение у малыша Сент-Мартина несладкое, но вы поглядите, вы только поглядите, как великолепен тот, кому он служит!» (Трудно отделаться от мысли, что Корнвелл проявил некоторую вольность, творя костюмную часть полотна – вероятно, из желания добавить толику славы портретируемому. Всякий, кто имел дело с соляной кислотой, отлично знает, что парадный мундир для такого случая не годится.)
Эмоции уловить труднее. Сент-Мартин, по виду, не зол и не счастлив. Он лежит на боку, опираясь на локоть. Его поза и устремленный вдаль взгляд ассоциируются с прилегшим отдохнуть у походного костра путником. Бомонт сидит – восхитительно прямо – у кровати, в кресле, обитом оленьей кожей. Он смотрит куда-то вглубь картины, но не за ее пределы – так, словно на стене кабинета, куда падает его взгляд, висит экран телевизора. И выглядит он посетителем, навестившим больного, но успевшим сказать все, что хотел. Доминирующий мотив картины – стоическое спокойствие: один персонаж исполнен терпения во имя науки, другой же терпит, чтобы продлить свое существование. Даже с учетом основной идеи полотна – прославления медицины (равно как и Бомонта, и лаборатории фирмы Wyeth), – стоило бы справедливости ради отметить: эмоциональный фон бледноват. В любом случае радости тут нет места. Но, по крайней мере, однажды Бомонт все же упоминает в своих записях о «гневе и нетерпении» Сент-Мартина. Изображенная процедура была не просто скучной – она была физически неприятной. Изъятие желудочных соков, пишет Бомонт, «обычно сопровождалось характерным ощущением в глубине желудка при погружении в него [зонда], чувством слабости и дурноты, из-за чего приходилось прекращать все действия».
Пренебрежительное отношение, которое Бомонт и медицинский истеблишмент того времени демонстрируют по отношению к пациенту, – что очень заметно, в частности, в манере обращения к Сент-Мартину, – помочь делу явно не могло. Упоминая Алексиса или обращаясь к нему, говорили или писали «малыш» – хотя тому было уже заметно за 30. Он был «человеческой тестовой трубкой», «патентованным сосудом для переваривания». Для исследования пищеварительных возможностей за пределами тела Бомонт заставлял Сент-Мартина держать пузырьки с желудочным соком под мышками – чтобы приблизить эксперимент к естественным температурным условиям или имитировать движение стенок желудка.
Когда несколькими годами позднее один из коллег Бомонта вознамерился получить знаменитый желудок Сент-Мартина для изучения или выставления в виде экспоната в музее, оставшиеся в живых члены его семьи выслали медику телеграмму, в которой было написано: «Не приезжайте на вскрытие. Убьем».
«Они [пузырьки с желудочным соком] удерживались в axilla, – читаем в заметках Бомонта, – и часто взбалтывались в течение часа или полутора». Если вы никогда не встречали термин axilla, то можете подумать, что речь о каком-то лабораторном оборудовании, но никак не о подмышечных впадинах. Бомонт провел десятки опытов, требуя, чтобы Сент-Мартин держал пузырьки подобным образом в течение шести, восьми, одиннадцати и даже двадцати четырех (!) часов. Так стоит ли удивляться, что «малыш» дважды вырывался на свободу – «сбегал», как выражается Бомонт: отчасти, чтобы повидаться с семьей в Канаде, но также и потому, что становился сыт происходящим по горло. Правда, во второй раз он нарушил контракт и потому надолго снискал гнев Бомонта. В письме к главному хирургу Соединенных Штатов[61], написанном примерно в то же время, Бомонт порицает Сент-Мартина за «гнусное упрямство и черную неблагодарность».