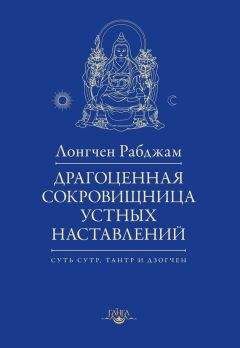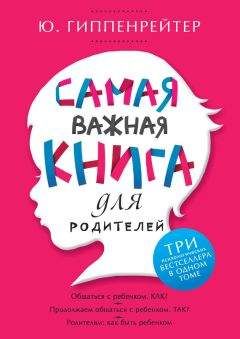Юлия Гиппенрейтер - Родителям: как быть ребенком
Если написать Света —? – на 3 р. меньше, то это вроде бы противоречит первой строчке.
– Нужно обязательно, чтобы у кого-то другого было меньше, – объяснил нам Дима.
Внутренне схватившись кто за голову, кто за сердце, мы с Аллой стали менять условие: «…А у Гали на 3 ромашки меньше». Это, однако, не ликвидировало всех вопросов. Нужно ли писать тире после вопросительного знака или только перед ним? Следует ли писать «На 3 р. меньше.» с большой буквы? Я чувствовал себя совершенно беспомощным. А ведь одновременно нужно писать красиво, аккуратно, письменными буквами – в точности такими, каким их учат, но на бумаге в клетку, а не в линейку. Можно лишь удивляться, что за всеми этими проблемами Дима все же сумел правильно вычесть 3 из 8. Между прочим, считать их учат тоже не лишь бы как.
– Вот, например, нужно сложить 7 и 3, – рассказывает Дима. – Но если ты сложишь 7 + 3, это будет неправильно. Нужно складывать так: 7 + 2 + 1.
(Я в этот момент ему не поверил, стал спорить, но дальнейшие примеры убедили меня в том, что он говорил правду.) А если нужно сложить 6 и 4, то нужно складывать 6 + 2 + 2. Вот, например, Ольга Ильинична спрашивает:
– Сколько получилось?
– 10.
– А как ты считал?
– 6 + 4.
– Садись, неправильно. А ты как считал?
– 6 + 1 + 1 + 1 + 1.
– Садись, неправильно! А ты? – 6 + 2 + 2.
– Правильно!
– Ну, а ты как считаешь? – спросила Алла.
– Ну, я вообще-то считаю 6 + 4, но когда у меня спрашивают, отвечаю, что считал 6 + 2 + 2, – сказал Дима и сам засмеялся от того, какой он хитрец.
Видимо, методика обучения счету состоит в том, чтобы идти по натуральному ряду с шагом 1 или 2. Возможно, для тех детей, которые еще совсем не умеют считать, это и имеет какой-то смысл. Но это тупое чудовище (я имею в виду школу – учителя в этом не виноваты) заставляет всех повиноваться своим примитивным принципам. И некуда деться!
Святослав Рихтер «Школу я ненавидел» [33]
Святослав Теофилович Рихтер (1915–1997) – выдающийся советский и российский пианист, культурный и общественный деятель, один из крупнейших музыкантов XX века.
...Когда знакомишься с судьбой творческого человека, пытаешься понять, что в детстве способствовало его будущему успеху. Обстоятельства и причины оказываются очень разными.
Мы увидим, что в случае Святослава Рихтера это было счастливое сочетание нескольких вещей. Во-первых, высокая музыкальная культура в доме: отец был композитором, регентом хора, органистом, пианистом и музыкальным педагогом, к тому же фанатично увлекался Вагнером. Это создавало такую атмосферу вокруг маленького Славы, что, можно сказать, он «родился в музыку».
С другой стороны, и это, судя по всему, оказалось фактором столь же сильным, его не принуждали к занятиям музыкой . Мальчик просто тянулся к музыке сам. Мать защищала его желание не играть гаммы и этюды и позволяла ему заниматься так, как он хочет. Короче говоря, Славе предоставили свободу , а это – непременное условие пробуждения и развития творчества! Мы видели, что так же поступала и мать другого выдающегося музыканта – Сергея Прокофьева.
В Одессе мы жили в немецком квартале. Отец служил регентом церковного хора – он ведь еще и на органе играл – и одновременно вел в консерватории класс фортепиано.
Я читал запоем. В свои десять лет или около того я просто глотал книги. Матушка корила меня за нелюбовь к Толстому, и это чистая правда, его я не читал, но обожал Гоголя, которого начал читать совсем еще маленьким, и Диккенса тоже… Меня завораживал Метерлинк – конечно, «Пелеас и Мелисанда» и еще «Принцесса Мален».
Поэзия начала волновать меня позднее. Я попрежнему страстно люблю Расина, Рембо, Шекспира, Пушкина и Пастернака, но это та форма художественного выражения, которую моя голова не удерживает, что же касается прозы, то я храню в памяти все, что прочел.
Я всегда столько читал, что однажды (много лет спустя, уже в Москве, во время войны) органист и композитор Александр Гедике сказал кому-то: «Непременно скажите Р-р-рихтеру (он произносил „р“ на немецкий лад), что читать на ходу на улице опасно!» Где-то в городе он столкнулся со мной, но я был так поглощен «Поэзией и правдой» Гете, что не поздоровался.
Девяти лет от роду я сочинил нечто вроде маленькой драмы под названием «Дора», пьесу из восьми действий и пятнадцати картин, с тринадцатью персонажами; мы представляли ее на одном из вечеров, которые устраивали иногда родители в нашей небольшой квартире. При случае задавались и костюмированные.
Эту традицию я продолжил у себя в Москве.
Все шло чудесно, и до одиннадцати лет у меня было счастливое детство. Но вот началась самая ужасная пора в моей жизни: школа! Школу я ненавидел, и даже сейчас при одном воспоминании о ней меня бьет дрожь. Все в ней меня отвращало, и прежде всего то, что она была обязательна. Все дети считались «бандитами», хотя школа была немецкая и у нее была превосходная репутация. Нашей классной дамой была строгая учительница фрау Петере. Наш страх перед ней усугублялся тем, что обычно она была очень спокойной и казалась мягкой и ровной. Но вдруг раздавался ее зычный, подобный иерихонской трубе вопль: «Вон!».
Довольно недурная собой – было в ней что-то от Джоконды, – она даже благоволила ко мне, но однажды воскликнула, и на немецком языке это звучало ужасно: «Alle sind so faul, faul, alle! Aber der Richter, der stinkt von Faulheit!» (Все вы лодыри, лодыри все до единого! Но от Рихтера просто разит ленью!)
Я правда ничего не делал, был и остался ленивым. Есть у меня такой недостаток: я от природы лентяй.
Однажды я сделал вид, будто иду в школу, но не пошел, а отправился бродить по окрестностям Одессы. Эскапада длилась десять дней. Я пошел открывать мир, полагаясь лишь на себя, вовсе не потому, что мне что-то там пытались вбить в голову. Я несравненно больше узнал, прогуливая уроки, чем посещая их в немецкой школе.
Как бы то ни было, в пятнадцать-шестнадцатъ лет этому пришел конец. Я с великим трудом сдал экзамены. В математике я ничего не смыслил, к тому же был слишком поглощен музыкой, которую открыл для себя лет в восемь, когда начал пробовать силы в игре на фортепиано.
Отец был действительно замечательный пианист и, когда располагал свободным временем, два-три часа занимался по вечерам. Я, понятное дело, слушал. Впечатления от его игры, несомненно, оказали сильное влияние на меня. Но когда я сам сел за пианино, папа пришел в ужас. Я до сих пор слышу, как он кричит: «Просто невероятно, что выделывает этот малыш!»
На первых порах я занимался с ним, но скоро у него опустились руки, потому что я обходился с ним без особого почтения. Он был человек очень мягкий, молчаливый… Ходила к нему прелестная ученица, чешская арфистка, уехавшая впоследствии в Сан-Франциско, где стала первой арфисткой Оперы. Она дала мне несколько уроков, и я быстро усвоил то, что положено знать, чему учат детей в самом начале, все, чему мне было необходимо научиться, чтобы отдаться целиком единственному занятию, меня интересовавшему: разбору партитур. После этого я решил, что могу обходиться без ее уроков.
Папа, как истый немец, явно не был согласен с моей методой, вернее, с полным отсутствием какой бы то ни было методы. Мама же, напротив, не раз повторяла: «Оставь его в покое, пусть делает так, как хочет». Наверное, она была права. Где-то в уголке ее сознания шевелилась мысль, что мне надо предоставить свободу. «Если у него нет охоты играть гаммы, – говаривала она, – значит, ему нет нужды в них». Так что гамм я не играл. Ни разу, как, впрочем, и упражнений. Никогда и никаких. Черни тоже не играл.
Первой сыгранной мною пьесой был Первый ноктюрн Шопена, за ним последовал ми-минорный этюд опус 25 № 5. Потом я пытался разобрать сонаты Бетховена, в особенности сонату ре-минор. Спустя еще какое-то время, поскольку я часто слышал, как отец играл Вагнера – он был фанатичным вагнерианцем, в Вене все время просиживал в опере, слушая Вагнеровы сочинения, и пересказал мне сюжеты всех его опер, – я заинтересовался им и начал проигрывать сокращенные варианты для фортепиано «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Можете вообразить, каково было мое исполнение! Но я играл все, что мне хотелось: Вагнера и Верди, Масканьи и Пуччини.
В нашей квартире было три комнаты. Большая была разделена надвое громадным шкафом. По одну сторону находилась мамина комната, а по другую – столовая, но ели мы на кухне. В маленькой комнате стоял рояль, и там я спал. Порою я слишком увлекался и заявлял: «Сегодня вечером я проиграю всю оперу от начала до конца». Мама сердилась: «Нет-нет, уже поздно, тебе пора спать!».
Одновременно я сочинял музыку. Сначала мои сочинения записывал папа, но потом я начал делать это самостоятельно. То были небольшие, разумеется, чрезвычайно нескладные вещицы, все для фортепиано. Первым моим «серьезным» сочинением оказалась, как можно догадаться, опера по мотивам лермонтовской «Бэлы». Текста не было, только музыка. Позднее на свет появились соната-фантазия и фокстрот на еврейские мотивы (и то и другое для фортепиано), а также опера-сказка «Ариана и Синяя Борода». Тем не менее, композитора из меня не получилось. А ведь что-то могло и выйти, ибо первые вещицы, написанные мной лет в одиннадцать-двенадцать, отличались заметным своеобразием. Но когда я стал постарше, началось подражательство, я принялся сочинять музыку в духе Франца Шрекера, потому что мне в руки попала его опера и совершенно околдовала меня. Ну да что там…