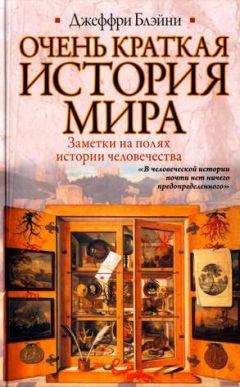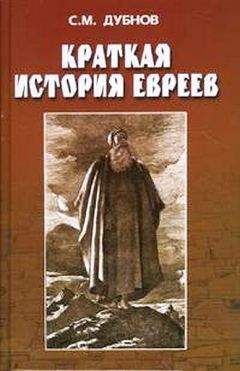Алессандро Надзари - MCM
— Могут и на свой счёт принять.
— Угу. Проще сразу, держа ушки на макушке, покрутиться в церквях возлияния на ролях служки, где бражируют… тьфу, барражируют все интересующие категории.
— Это ж прорва забегаловок!
— Попрошу выделить нам подкрепление. Или хотя бы предоставить кого-нибудь на флю-мируа, чтобы тот откалибровал его под нужные эманации. Благо что миноров отследить — не проблема.
— Э-эх. Пойду искать наряд «привет, становлюсь катринеткой, подкормлю гения галеткой».
5
Михаилу Евграфову снилось дурное и чуднóе. Если кто-то и утверждает, что во сне возможно разрешить задачки, неразрешимые перегруженным повседневностью сознанием, то это был определённо не тот случай. Если сравнивать измятую постель с исписанным листом бумаги, то всякий мог бы заключить, что сегодняшний сон Михаила был подобен признанию обитателя дома скорби.
Отвратительный сон без перерывов и пауз, совершенно монотонный. Он видел чудовищную машину, отдалённо напоминавшую паровоз, собирающий рельсы и шпалы впереди себя. Аниматическими клешнями, следующими сложным механическим алгоритмам, не то из отливавших чугуном и латунью зиккуратов, не то из вагонов, следовавших за ним, брал компоненты и раскладывал их с нечеловеческими точностью и быстротой, перемещался вперёд, и начинал процесс заново, однако в какой-то момент что-то изменилось, и паровоз перестал двигаться, но нарастил манипуляторы в длину — по одному за раз поочерёдно каждый из них был улучшен соседями — и протягивал пути, насколько хватало структурной выносливости металла, а потом стал собирать некую машину, по завершении сборки ставшую паровозом невиданной аэродинамической конструкции, и вот этот современный паровоз оказался прямо впереди своего предшественника — и укатил вдаль, через какое-то время сойдя с недостроенных путей, тогда паровоз-старичок повторил сборку, на сей раз его детище не укатило, но и двигаться не стало, тогда он добавил ему манипуляторы и начал передавать рельсы и шпалы для дальнейшей сборки, тот исправно выполнял обязанности, но потом отчего-то начал разбирать и своего творца на детали, причём какие-то из них, вроде клёпок, шли для улучшения дороги, а какие-то — наращивались на его обтекаемый корпус наподобие клыков, рогов, бивней, гребней и прочих костных наростов, и так, пока не остались одна лишь топка с котлом, колёсные пары да какие-то продырявленные картонки, — Михаилу каким-то образом удалось оценить поэтичность их содержания, — тогда топку рассекли многочленные манипуляторы, соорудили из неё и колёсных пар что-то вроде фонаря-коляски и поставили впереди состава так, чтобы жар и свечение оповещали дикое пространство впереди о приближении, остальное тоже как-то рассосалось, и завершилось всё тем, что картонки были применены как губная гармошка, нахлобученные вместо свистка на одной из труб, и издавали они мелодию совершенно неудобоваримую, сообщавшую нечто, одному лишь организованному нагромождению металла известную, и разжигала она огонь в топке, и двинулся состав, подцепив пустующие вагоны, и поезд этот почему-то двинулся на Михаила, очутившегося на линии его движения. И Михаил уже буквально начал чувствовать его жар, как поезд-монстр отнюдь не чуфыкнул — зверино взревел, затрясся на путях так, что они пошли волнами, а затем… Взорвался. Мгновение ничего не происходило. Глаза застил пар, будто готовившийся превратиться в белёсую смолу, что заключит и Михаила, и поезд в гигантскую каплю столь же белёсого янтаря. Но всё же он рассеивался, и Михаил увидел, что на расстояние аршина к нему неспешно подкатился тот поезд — с развороченным паровым котлом, десятки труб которого внезапно высвободившееся давление превратило в подобие железных щупалец — отчего-то уже ржавых. И этой ржой, особенно сильной на рваных краях со стороны отсутствующей дверцы дымовой коробки, они, описав уродливую параболическую дугу, метили в Михаила — жалкого человечка, которого вывороченная махина готовилась если не употребить в пищу, то уничтожить, сделать неживым, подобно себе; быть может, присовокупить, наполнить паром его кишки… И он бы им отдался… Да, ржещупальца медленно, но неукоснительно придвигались к Михаилу…
Проснулся он с горячим лбом и в поту, достойном кочегара, но мозг его продолжал выдавать образы и переваривать мир всё в том же ритме — или его отсутствии. Но всё же он смог сформировать главную для него на данный момент мысль: в секцию паровозов на Выставке он не пойдёт. «Ну, эти Од, Ѳ и Ц».
Тут он провалился во второй сон. То было также видение о паровозе, но отличное от предыдущего. Он видел паровоз, у которого на приводных колёсах вместо поршней были лошадиные ноги. А затем он увидел, что паровоз этот движется по путям, проложенным по гигантской часовой стрелке, и уже близится катастрофа, но тут поезд взмыл пегасом и исчез. А часы остались. И стрелки были готовы отсечь Михаилу голову неумолимой медленной гильотиной. Но чем ближе они становились к горлу, тем больше изгибались, обхватывая его шею. Но вместо того, чтобы задыхаться, он ощутил духоту. Слово родственное, но означающее другое. Стрелки тоже начали казаться никакими не стрелками с игрушечной железной дорогой на них, но щупальцами, лишёнными присосок, зато испускавшими из своих окончаний лучи света, которые, правда, не делали предметы ярче, зато мгновенно приближали их, пожелай того Михаил. Но желал он лишь разрешиться от обвившей его мерзости, и потому направил лучи друг на друга и сгорел в потоке света.
Сгорел для того, чтобы фениксом возродиться в своей каюте. Был уже давно не тот час, когда трудолюбивому человеку пристало покидать кровать, — но ничего, его график большей частью ночной. Из дел на сегодня ждал отчёт, кое-какая возня с чертежами и новая экспедиция, если на то дадут разрешение. Думая об этом, он также размышлял и о том выговоре, каковой непременно получит от руководителя за тот провал. Если речь и вовсе не пойдёт об отстранении. При этом он почувствовал странное ощущение в районе шеи, будто его не то что ударили, но и впрямь пытались придушить. «Вероятно, реакция от слишком тугого форменного воротничка», — предположил он. Хотя было и что-то другое. В перерыве между снами, в том горячечном пробуждении, казалось, в его каюте притаился кто-то ещё, какой-то непонятный тонкий тёмный контур нависал над ним. Прикинув варианты, предположил, что то была тень от дерева или столба на ипподроме, куда ранним утром дирижабль опускался. Но духота-то откуда взялась? Он ведь оставлял иллюминатор приоткрытым… Хотя сейчас он был закрыт на поворотную щеколду. Неважно. Его взбодрили разминка и холодный душ, — Солнце отчего-то так и не прогрело трубки, связанные с резервуаром. Однако бриться он не стал — щетина позволяла лишние двенадцать часов подобной вольности, — чтобы не усиливать раздражение на шее. Далее его ждали завтрак сытным офицерским пайком в кают-компании под общение с командирами других отрядов, выходивших этой ночью на смену и уже сдавших не слишком интересные короткие отчёты — и пора уже самому на ковёр. Признаться, Михаил этой встречи не страшился, но ждал.
Его беспокоило то, что трое суток представленный им отчёт не находил адресата. Физически, безусловно, дошёл — для того курьерская служба, увитая проводами, радиоволнами и бумажными лентами, и существует. Во всяком случае, беглое знакомство состоялось. Но ведь донесение было не из тех, что можно положить в долгий ящик, какое-то ответное распоряжение должно ему воспоследовать! Впрочем, то могла быть небольшая уловка, чтобы проверить, не замутит ли кто омут, — но на уровне исполнителей всё было тихо. Значит, свидетелю их дел так и не удалось найти применение своему знанию, либо же раскрытие этой информации могло быть невыгодно по тем или иным причинам. Или это тоже было ответной уловкой: не занервничает ли кто? Возможно, в это самое время подбираются крючок поострее да леска потолще. Что ж, вот и повод узнать, для чего это всё на самом деле.
Михаил, насупившись от дум, продвигался к именной каюте на верхней палубе «Александра ІІ Освободителя», флагмана воздушного флота, чересчур роскошного, чтобы быть летающей лабораторией и чертёжной мастерской. Но, пожалуй, все призванные на борт заслуживали эти месяцы великолепия, какими бы чудаками или посредственностями при том ни казались по первому впечатлению. Дирижабль внушал достоинство каждым своим элементом, — но не себе самому, будь у него самосознание, а всем, кто был причастен к его созданию и эксплуатации. Это был лучший монумент человеческому гению. «Не безошибочному, не идеальному, но подошедшему к самой грани совершенства», — набирался Михаил источаемого судном духа. Он был готов и собран, он создал в сознании понятийно-поведенческий конструкт, отвечавший запросам предстоящего.