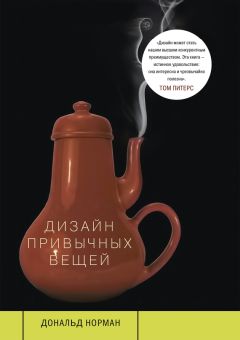Джорджетт Хейер - Роковой поцелуй
Брат пришел в сильнейшее раздражение. Покраснев, он недовольно заявил:
– Мой кузен чересчур любопытен! Как ему не надоест совать нос в мои дела?
– Но, Перри, значит, это правда? Ты должен деньги лорду Уорту? А я-то думала, такое невозможно!
– Ничего подобного. И не забивай себе голову этими глупостями!
– Бернард сказал, что узнал это от одного из тех, кто присутствовал на той игре.
– Проклятье! Почему бы тебе не оставить меня в покое? Ну, играл я в макао за столом Уорта, но я ничего ему не должен.
– Бернард говорит, у лорда Уорта остались твои расписки на сумму в четыре тысячи фунтов.
– Бернард сказал! Бернард говорит! – сердито вскричал Перегрин. – Заявляю тебе: я не желаю вспоминать об этом деле! Уорт повел себя чертовски непозволительно, словно увидел нечто экстраординарное в том, что человек с моим состоянием взял да и проиграл несколько тысяч за один присест!
– То есть, он – твой опекун – выиграл у тебя огромную сумму?
– Я больше не желаю говорить об этом, Джудит! Уорт порвал мои расписки, на том дело и кончилось!
Она вдруг поняла, что испытывает несоразмерное чувство облегчения. Потеря четырех тысяч фунтов не грозила Перегрину разорением, но сам факт того, что Уорт выиграл у него такую сумму, неприятно поразил Джудит. Она не верила, будто он способен на подобное нарушение приличий, и теперь с радостью убедилась, что была права.
Визит в Остерли-Парк оказался удачным, и к середине февраля Тавернеры вернулись в Лондон с намерением оставаться в столице до самого начала сезона в Брайтоне[91]. В городе за время их отсутствия ничего не изменилось: новых развлечений не прибавилось, не случилось и громкого скандала, который дал бы пищу обильным пересудам и кривотолкам. Продолжалось все то же бесконечное чередование балов, ассамблей, карточных вечеров и посещений театров, изредка перемежаемое концертами старинной музыки или походами в Музей Буллока для тех, кто обладал более строгим складом ума. Единственную изюминку привнес мистер Бруммель, вызвавший некоторый ажиотаж заявлением, будто он решил изменить свой образ жизни. Немедленно появились всевозможные слухи и предположения о том, что могли бы означать эти самые перемены, но, когда его прямо спросили, в чем они заключаются, он ответил самым искренним образом:
– Изменения… ах, да! Например, теперь я ужинаю рано, ем кусочек лобстера, абрикосовую слойку или что-нибудь в этом роде, около двенадцати выпиваю бокал подогретого шампанского[92], после чего в районе трех часов камердинер укладывает меня в постель.
Герцог Кларенс, предприняв еще одну – безуспешную – попытку завоевать расположение мисс Тавернер, возобновил осаду мисс Тильни Лонг, но и здесь его шансы на успех оценивались невысоко, поскольку сия леди начала отдавать явное предпочтение ухаживанию мистера Уэллсли Пула.
Но в начале марта все эти мелкие происшествия померкли перед лицом нового яркого события. У всех на устах было одно-единственное имя, и на столе каждой гостиной лежал свой экземпляр поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Были опубликованы всего две ее песни, однако и они приводили всех в невероятный восторг. Лорд Байрон, неожиданно ставший знаменитым, в один прекрасный день затмил собой всех поэтов, и счастлива бывала та хозяйка, которой удавалось заполучить его к себе, дабы придать исключительности своему вечернему приему. С распростертыми объятиями его принимали у себя обитатели Дома Мельбурнов[93], а леди Каролина Лэм[94] влюбилась в него до безумия, в чем не было ничего удивительного, поскольку никогда еще поэта не окутывал такой ореол романтической загадочности.
– Черт бы побрал этого ма́лого Байрона! – с юмором заявил однажды капитан Одли. – После выхода «Чайльд-Гарольда» ни одна молодая дама более не удостаивает и взглядом всех нас, менее одаренных смертных!
– Если вы адресуете свое обвинение мне, то оно совершенно беспочвенно, – с улыбкой возразила мисс Тавернер.
– Я уверен, если бы хоть раз услышал, как вы восторженно декламируете: «… Прощай, прощай, мой брег родной в лазури вод поник…»[95], это означало бы, что вы повторяли подобное не менее дюжины раз! А известно ли вам, что мы, все остальные, уже поседели от тщетных усилий сравниться с ним в искусстве стихосложения?
– О да, поэзия Байрона! Ее я готова слушать часами, но прошу вас не путать мое восхищение его творением с обожанием его светлости. Я встречала этого мужчину в «Олмаксе». Да, признаю́, он довольно красив, но при этом настолько горд и так нарочито меланхоличен, что внушает отвращение, по крайней мере мне. Он вперил в меня свой сверкающий взор, поклонился, обронил холодным тоном два слова… и все! У меня не хватает терпения смотреть, как все спешат обступить его со всех сторон, льстя ему, восхищаясь и ловя каждое слово. Подумать только! Его пригласил на обед в Сент-Джеймсском дворце сам мистер Роджерс, а он опоздал, отказался от всех предложенных ему блюд и закончил тем, что отобедал картофельным пюре с уксусом, к вящему изумлению, как вы легко можете себе представить, всех остальных. Мне рассказывал об этом один из тех, кто присутствовал на том обеде, и на кого такое поведение произвело неизгладимое впечатление. Что до меня, то я полагаю это намеренной аффектацией, которая не заслуживает восхищения.
– Замечательно! Я в полном восторге, – провозгласил капитан. – Теперь я спокоен: мне незачем подражать его светлости.
Джудит рассмеялась.
– Подражать такому гению! Не думаю, что кто-либо способен на это. При том знайте: в основе моего недовольства лордом Байроном лежит уязвленное самолюбие. Он же едва удостоил меня своим вниманием! Не думаете же вы, что после такого я воздам ему должное?
А лорд Байрон продолжал занимать умы и мысли всех представителей высшего общества. Его роман с леди Каролиной был у всех на устах, вызывая всеобщее порицание или восхищение, его стихи и его личность превозносились до небес: даже миссис Скаттергуд, не питавшая особой любви к книгам и чтению, вполне могла без запинки продекламировать две или три строчки из «Чайльд-Гарольда».
Перегрина, чего вполне можно было ожидать, личность его светлости ничуть не интересовала. Он избавился от кашля, вернул себе прежний цветущий вид, и сейчас ему, похоже, досаждали только две вещи: во-первых, Уорт, невзирая на все уговоры, не давал своего согласия назначить точную дату предстоящего бракосочетания; и, во-вторых, даже мистер Фитцджон оказался не в состоянии внести его имя в список для избрания в члены «Клуба четырех коней». Это избранное сообщество лучших наездников проводило свои собрания в первый и третий четверг мая, а также июня на площади Кэвендиш-сквер, после чего строгой рысью следовало в желтых ландо на Солт-Хилл. Там члены клуба ужинали в гостиницах «Замок» и «Мельница», предварительно отобедав на Тернхэм-Грин, подкреплялись легкими закусками и освежающими напитками в «Сороках» на Ханслоу-Хит. Обратное путешествие совершалось на следующий день без перемены упряжек. Джудит никак не могла уразуметь, что такого выдающегося брат нашел в этом клубе и его деятельности, но на протяжении целых двух месяцев все устремления Перегрина были сосредоточены исключительно на том, чтобы присоединиться к этой почтенной процессии, направляющейся на Солт-Хилл, и править упряжкой гнедых лошадей, каковые (хотя масть животных не подразумевалась в обязательном порядке) полагались de rigueur[96]. Вид мистера Фитцджона в клубной форме причинял ему буквально физические страдания, и Перри готов был отдать все свои умопомрачительные жилетки за одну-единственную, но голубую в желтую полоску шириной в дюйм.
– Нет, право, дорогой Перри, я ничем не могу тебе помочь! – в отчаянии заявил мистер Фитцджон. – Кроме того, даже если я предложу твою кандидатуру, кто еще согласится поддержать ее? Пейтон не станет этого делать, Сефтон тоже, да и ты не стал бы просить меня об этом, если бы сумел заручиться поддержкой Уорта.
– Я достаточно хорошо знаком с мистером Аннесли, – сообщил другу Перегрин. – Как по-твоему, он согласится поддержать меня?
– Ни за что, особенно если видел, как ты управляешься с четверкой, – безжалостно заявил в ответ мистер Фитцджон. – Несмотря ни на что, старина, ты получишь черный шар[97]. Попытай счастья с «Бенсингтоном»: насколько мне известно, правила у них не такие строгие, и, кто знает, у них как раз может открыться вакансия.
Но подобное предложение ни в коей мере не могло удовлетворить Перегрина: это должен был быть или «Клуб четырех коней», или вообще ничего.
– Все дело в том, Перри, – откровенно заявил другу мистер Фитцджон, – что ты не умеешь править. Да, наездник из тебя получился недурной, спору нет, но я бы не согласился сидеть рядом с тобой на облучке и за сотню фунтов! Ты у нас криворукий, мой мальчик, истинно криворукий!
Перегрин немедленно ощетинился, воспылав праведным гневом, однако сестра его негромко рассмеялась, а потом повторила это выражение, которое пришлось ей по душе, своему опекуну. Она поравнялась с его коляской, когда каталась в Парке и, остановившись рядом, мило прощебетала: