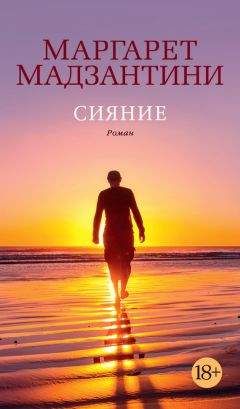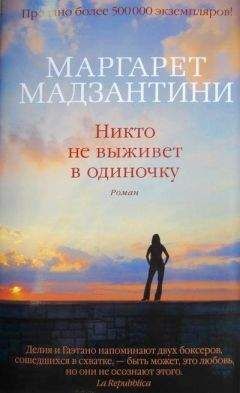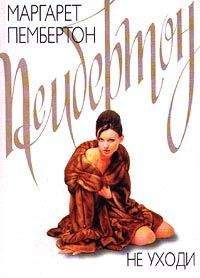Не уходи - Мадзантини Маргарет
Вечером я пешком дошел до того гастронома, где привык ужинать карликовыми апельсинами. Я поел, глядя на стоявший у стены включенный телевизор, звука не было слышно. Толпа состояла из людей-одиночек, они что-то жевали, стоя на опилочном покрытии, держа в руках засаленные бумажные салфетки. Вернулся я тоже пешком, рассеянный, обессиленный, расталкивая плечами темноту. Магазины уже позакрывались, город готовился отдыхать. Я вошел в телефонную будку — трубка там была оборвана, и провод безжизненно болтался растянутой пружиной. Ладно, сказал я себе, позвоню из следующей будки. Но больше я так и не остановился, я дошагал пешком до самого дома.
Дома Эльза сидит на диване вместе с Рафаэллой, они разговаривают, ставя на место сумку, я слышу их голоса. Рафаэлла поднимается, я обнимаю ее плохо повинующимися руками, утопаю в ее необъятных телесах. Она без туфель… краем глаза я их нахожу — туфли стоят на ковре.
— Я так рада, наконец-то я стану теткой!
Обнимая меня, она просто трепещет в экстазе, чувства переполняют ее. Я не свожу глаз с невероятно разношенных туфель.
— Ну что же, доброй вам ночи, милые дамы.
— Ты уже спать?
— Завтра мне надо встать чуть свет.
Эльза поверх спинки дивана подставляет мне теплую щеку, я касаюсь ее своей щекой. Рафаэлла глядит круглыми, совсем детскими глазами: «Ты не против, если мы еще тут посидим, поболтаем?»
Да говори сколько тебе влезет, Рафаэлла, дай своему сердцу надышаться, пока оно бьется, ведь все мы тут товарищи по круизу, мы взгромоздились на телегу, лишенную колес, и думаем, что куда-то едем.
На следующий день я сижу в самолете, надо лететь на очередной конгресс, командировка совсем короткая, к вечеру я вернусь обратно. Манлио сидит рядом, бесцеремонно положив ручищу на мой подлокотник. Я вдыхаю запах его крема для бритья. У меня место у окна, я смотрю на белое крыло, выделяющееся на сером фоне взлетной дорожки. Пока что мы все еще на земле. Здесь, внизу, картина не ахти, воздух грязный и спертый, но там, за облаками, есть надежда увидеть солнце. Проходит стюардесса, толкая перед собою тележку с журналами. Манлио оценивающе смотрит на ее зад. В полете я буду пить кофе, мне дадут чашку «настоящего турецкого», как его называет Манлио. Мне надо уходить, надо убираться отсюда, самолет разобьется, я не хочу подохнуть, сидя рядом с Манлио, с чашкой «настоящего турецкого» в руках. Мне плохо, у меня выступает пот, сердце готово выскочить из груди, левой руки я совсем не чувствую. Я понял, я умру от инфаркта, сидя в этом их крохотном, ходуном ходящем металлическом сортире, глядя на стопку гигиенических салфеток, которая подрагивает над миниатюрным самолетным унитазом. И я встаю с места.
— Ты куда?
— Я хочу назад.
— Что еще за хреновина?
Двери уже задраили, самолет покатил на взлет. Старшая стюардесса меня останавливает:
— Простите, синьор, вы куда?
— Мне нужно обратно, мне плохо.
— Я вызову вам врача.
— Я сам врач. Мне плохо, выпустите меня из самолета.
Должно быть, вид у меня достаточно красноречивый, и девушка в форменном платье, со светлыми, собранными в шиньон волосами и миниатюрным носиком, пятится, идет к пилотской кабине. За нею туда проскальзываю и я. Оба пилота в белых безрукавках оборачиваются и смотрят на меня.
— Я врач, у меня начинается инфаркт, откройте мне двери.
К самолету снова подъезжает лестница, дверь распахивается. Воздух, наконец-то воздух. Я сбегаю вниз. Манлио следует за мной. Стюардесса его окликает: «Что вы делаете, вы тоже хотите остаться?»
Манлио поднимает обе руки, ветер от двигателей рвет на нем пиджак. «Я его коллега!» — кричит он.
И мы оба оказываемся на бескрайней бетонной глади взлетного поля. Служащий аэропорта сажает нас на свой маленький джип и везет к зданию вокзала. Я молчу, руки у меня сцеплены, рта не открыть. Сердце вроде бы отошло. Манлио нацепляет солнечные очки, хотя никакого солнца нет и в помине. Мы слезаем с джипа.
— Можно узнать, что тебе за вожжа под хвост попала?
Я пытаюсь улыбнуться:
— Я тебе жизнь только что спас.
— По-твоему, он свалится?
— Нет, теперь уже не свалится. С самолета, который должен свалиться, ты просто так не слезешь.
— Что, здорово обделался?
— Было дело.
— Знаешь, а ведь и я тоже!
Мы хохочем и идем в бар — выпить не «турецкого», а вполне приличного кофе. Конгресс, похоже, накрылся. «Ну и пошли они все подальше», — говорит Манлио. Ему нравятся такие экспромты. И вот тут меня прорвало. Я рассказываю ему все, щеки у меня отвисли, потому что говорю я, наклонившись над опустевшей чашкой, ковыряя ложечкой гущу на дне. Тут, в баре аэропорта, в окружении людей, которые торопливо глотают свои бутерброды, не сводя глаз с багажа, я выкладываю ему весь свой роман со всеми заключенными в нем эмоциями и желаниями, выкладываю, словно подросток прежних времен, влипший в классическую любовную историю. Манлио для этого подходит меньше всего, но это не важно, мне необходимо хоть кому-то это выложить, а он тут, он рядом со мной и поглядывает на меня своими кабаньими глазками. В друзьях мы с ним по какому-то недоразумению, и оба это знаем, но сейчас мы стоим перед металлической стойкой, давно уже прикончив свой кофе, и этот момент все-таки как-то сближает нас.
— А что это за баба?
— Да ты ее видел.
— Я ее видел?
— Тогда, вечером, на онкологическом конгрессе, она сидела за столиком недалеко от нас…
Он покачивает головой:
— Знаешь, не помню… хоть убей, не помню.
Мимо проходят люди. Манлио зажигает сигарету, хотя курить здесь нельзя. Я смотрю перед собой и говорю — ему, самому себе, безымянному потоку людей, идущих мимо… Говорю, потому что мне нужно это сказать:
— Я влюблен, понимаешь?
Манлио заминает окурок носком своего мокасина:
— Ну что, садимся на следующий самолет?
Я паркую машину, забираю с заднего сиденья сумку и шагаю к клинике. Италия выныривает как-то неожиданно и оказывается рядом со мной. Она кладет руку мне на локоть, и пальцы ее пытаются нащупать мою кожу сквозь сукно рукава. Она не успела меня удивить, но напугать уже успела. Она осунулась, не накрашена. Она даже не позаботилась прикрыть лоб парой локонов; лоб у нее большой, он доминирует над лицом, подавляет выражение глаз. Я оглядываюсь вокруг, а оглядываясь, понимаю, что пытаюсь защититься от нее, от той тяжести, которую она сегодня принесла с собой.
— Пойдем.
Я пересекаю улицу, не прикасаясь к ней. Она идет следом, опустив голову, руки ее торчат из рукавов выношенного полотняного жакета. Какая-то машина вынуждена притормозить, она не обращает на нее внимания, она вторит моим торопливым шагам. Я удаляюсь от клиники, словно вор, умыкнувший какую-то постыдную добычу. Заворачиваю в переулок и иду прямиком к кафе, которое, помнится, должно тут быть.
Она идет за мною по винтовой лестнице, ведущей на второй этаж, — там пустой зальчик, воняющий застарелым сигаретным дымом. Она усаживается рядом, совсем близко. Смотрит на меня, потом отводит глаза, потом снова смотрит.
— Я тебя ждала.
— Прости меня.
— Я тебя долго ждала. Почему ты не звонил?
Я не отвечаю, что тут ответишь? Она поднесла руку к лицу, лицо у нее теперь покраснело, глаза подернуты серой пеленой слез. В глубине зальчика стоит аквариум, издалека рыбки кажутся цветастыми карнавальными хлопушками.
— Ты решил, что ребенка не надо, правда?
Мне не хочется говорить — ну только не сегодня, только не сейчас…
— Тут совсем не то, что ты подумала…
— А что тут? Скажи, что тут?
В глазах ее вызов, и в этих ее слезах, которые все не могут пролиться, тоже вызов. Губы у нее поджаты, она настойчиво теребит обшлага жакетика. Мне мешают ее неугомонные руки и лицо, не дающее мне выскочить из окружения… Надо бы сказать ей про Эльзу… но нет, сегодня подобные эмоциональные скачки мне не нужны. Мне тяжело сидеть с нею, словно взаперти, за этим столом, тут мало света, воняет окурками, да еще эти цветастые рыбки, брошенные в аквариум, словно неиспользованные петарды давно закончившегося карнавала. Внезапно она начинает плакать в голос, бросается мне на шею, губы у нее мокрые и нос тоже.