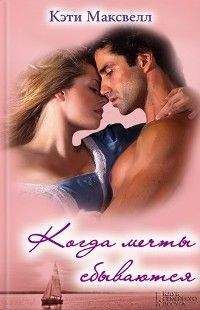Райская птичка - Гузман Трейси
Томас освободил их запястья, и шарф соскользнул на пол. Он шептал ее имя снова и снова, пока оно не зазвучало экзотично, будто принадлежало незнакомке. Она и есть незнакомка, поняла Элис. Она ведет себя совершенно иначе, не прилагает обычных усилий, чтобы спрятаться, слиться с фоном. Она прижалась к Томасу, почувствовав спиной его ребра. Его дыхание было частым; его пальцы расстегивали манжет ее рукава. Элис повернулась к нему, пряча голову в изгибе его шеи. Он уже принял душ; его лицо было свежим и пахло кремом для бритья, а в дыхании слышалось эхо кофе и рома. Желая коснуться его первой, она стала целовать его скулу. Именно там слегка менялся цвет его кожи, как складка в бархане. Элис скользнула рукой ему под рубашку, пряча ладонь, и запрокинула голову. Шея была той частью ее тела, которая до сих пор оставалась гибкой, такой, какой должна быть. Большой палец Томаса нашел на ней ямку, в которой бился пульс, надавил на нее, и Элис почувствовала, что распускается.
– Расскажи, над чем ты сейчас работаешь.
– С птицами это никак не связано. Не думаю, что тебе понравится.
Его руки порхали по ее телу легко, как перышки, расшифровывая историю, написанную на коже: страшилки детских шрамов, плоть, которая никогда не видела солнца, складки, прорезанные привычными движениями. Томас набросал на постель столько подушек, что теперь она напоминала крепость. Элис очутилась в окружении пуха и поролона, ее суставы отдыхали на полинявших шелковых треугольниках цвета лаванды и гречихи.
– Как ты решаешь?
– Что рисовать?
Он подвинулся, сдернул с нее одеяло и обвил руками ее талию, привлекая Элис ближе, зарываясь носом в облако ее волос. Элис чувствовала запах его пота на своем теле, а его плечо до сих пор пахло шампунем, которым он мыл ей голову в душе, – сандаловым деревом и цитрусом.
– Обычно я об этом не говорю. Нет, я не суеверный, искусство для меня не религия. Но это трудно выразить словами.
Элис лежала тихо, сжимаясь, чтобы стать невидимой, как будто Томас может забыть, что она здесь, и признаться в чем-то.
Он приподнялся на локте:
– Наверное, я ищу то, чего не видно, и пытаюсь поместить это на холст. Не негативное пространство, а, скорее, сущность вещи или места.
– Что, если бы ты рисовал меня?
Томас провел большим пальцем по ее нижней губе.
– Не знай я тебя, то подумал бы, что ты напрашиваешься на комплимент, – он потянулся плавным движением, чуть отдалившим их тела друг от друга. – Есть вещи настолько прекрасные, что я бы никогда не осмелился их рисовать.
Он выбрался из постели и исчез в коридоре.
– Никуда не уходи, – бросил он. – У меня кое-что есть для тебя.
Ей никуда не хотелось уходить. Каждый раз, когда Томас оставлял ее, она с нетерпением ждала, когда его шаги зазвучат снова, громче и громче, возвращаясь к ней.
– Я сохранил ее для тебя, – сказал Томас, забираясь обратно в кровать, пробегая пальцами по ее боку, по груди. Ее кожа вспыхнула, и по ней побежали мурашки. Ей стало одновременно холодно и жарко: какие-то ее части заледенели, какие-то уподобились магме. Книга, которую Томас бросил на одеяло, оказалась сборником «“Без путешествий” и другие поэмы» Мэри Оливер. – Вероятно, к этому времени ты задолжала библиотеке кругленькую сумму.
Два дня. Три. Он убил в ней желание спать и есть. Она хотела бодрствовать в его постели, говорить с ним или не говорить. Это не имело значения.
– Выключи свет.
Томас повиновался, и, когда в комнате стемнело, он стал казаться светлее. Его кожа светилась, бледная и холодная, как люминесцентный мрамор.
– Я бы предпочел видеть тебя, – сказал он.
– Тогда представь, что ты меня рисуешь, и закрой глаза.
Одетая в халат, Элис стаскивала с Томаса простыни. Солнце впервые за день показалось из‑за туч и напитало комнату светом. Она прижалась кончиком языка к вершине его бедра и почувствовала соленый вкус его кожи. Ей было легче игнорировать боль, когда она сосредотачивалась на чем-то сиюминутном, на чем-то, что было ей нужно. Томас поежился и что-то буркнул, еще не до конца проснувшись. Элис провела пальцем по центру его спины, помяв каждый позвонок – шейные, грудные, поясничные, крестцовые, – восхищаясь совершенством его позвоночника, потом скользнула по перламутровому кольцу рубцовой ткани, отмечавшей его левую ягодицу.
– Что с тобой случилось?
– М‑м‑м.
Она ткнула его в плечо:
– Что случилось?
– Где?
– Здесь.
Элис обвела пальцем шрам.
Его бархатный ото сна голос прозвучал невнятно. Он ответил в подушку:
– Нила. Злобная шавка меня укусила.
Воспоминание начало всплывать на поверхность, медленно, но уверенно, отметая все препятствия, которые Элис ставила у него на пути. Слова Натали, но из уст Томаса. Злобная шавка. Она пыталась не вспоминать остального, но слова сестры захватили ее водоворотом и потянули на дно. Это не помешало ей оторвать кусок от Томаса. Я видела шрам.
Она повернула замок в двери гостевой комнаты. Она задернула занавески и сорвала с себя халат Томаса, возненавидев его прикосновение к своей коже, с готовностью принимая острую боль, которой отозвались резкие движения. Ее собственные вещи были жесткими от засохшей грязи и до сих пор пахли озером, но она натянула их и села на постель, закрыв уши руками. Он барабанил в дверь, звал ее по имени, потом, позднее, проклинал ее. Она слышала, как он уходил и возвращался, и снова уходил, и снова возвращался. Она слышала, как его идеальная спина сползла по стене в коридоре. Она слышала перезвон бутылки и стакана и то, как его язык стал заплетаться от спиртного. Она слышала его дыхание и его сожаление, слышала его извинения. Слышала, как он уснул.
Элис напоследок окинула комнату взглядом, запоминая детали. Темные занавески, испачканный грязью коврик напротив шкафа, горка подушек на постели, холодной и строгой, будто она и не спала на ней в ту первую ночь после грозы. Клетка из золотой проволоки на прикроватном столике. Элис подняла ее и снова провела пальцем по спинке гуираки, по ее насыщенной, бесконечной сини. Как он там говорил? Я хотел, чтобы она испытала чувство потери. Элис отодвинула клетку в сторону и опустила птицу себе в карман.
Глава седьмая
Неужели он в самом деле ждал, что они переступят порог летнего домика и сразу увидят на стене обе картины, разделенные большим пустым пространством? Может, еще красный крестик, помечающий место третьей? Человек, открывший им дверь, Эван, не спускал с них глаз. Финч даже не видел, чтобы он моргал. Эван попросил, чтобы они не расходились по разным комнатам, и стал на страже у порога, будто ждал, что они улизнут с… чем? С жалким диваном, застеленным простыней? С потрескавшимися, пожелтевшими абажурами, покрытыми таким слоем паутины, что в нее можно было бы поймать небольшое млекопитающее? Финч посмотрел, нет ли на полу пауков. На восточном ковре белела залысина размером с его голову, а то и больше. Столько всего пропало зря. Финчу сделалось дурно. Как понять Томаса? Он мог продать коттедж и какое-то время жить на вырученные деньги или, что маловероятно, но гораздо более здраво, вернуть что-то из долгов. Вместо этого дом пустовал, спрятанный за деревьями.
Берег озера подернулся льдом, и вода плоским зеркалом растянулась до самого горизонта. Везде, куда ни глянь, Финч видел только белое. Стволы деревьев занесло снегом, ветви окутало будто ватой. Причал, ступени к нему, крыши соседних коттеджей – все лежало под таким же покрывалом. Идеальный зимний пейзаж, подумалось Финчу. Только у него он вызывал клаустрофобию.
– Владелец – мой друг, – сказал он Эвану, этому сторожевому псу с короткой стрижкой, который стоял прямо, будто аршин проглотил, подперев спиной дверь и скрестив руки на выпирающем брюшке.