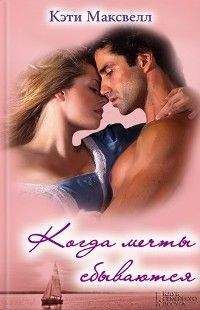Райская птичка - Гузман Трейси
– Голой как сокол.
– По-твоему, это смешно?
– Отнюдь. Я просто надеялся, что ты оценишь птичий эпитет. Видимо, напрасно. Но, признаться, все это заставляет меня задуматься, насколько хорошо ты знаешь свою сестру.
– К чему ты клонишь?
– Натали никто не назвал бы скованной или замкнутой. Я не просил ее раздеваться. Она пришла ко мне однажды днем и спросила, не мог бы я нарисовать ее портрет. Сказала, что хочет подарить его своему парню. Я согласился и пошел в другую комнату за альбомом и карандашами. Когда я вернулся, твоя дорогая сестричка стояла здесь уже без платья. Sans vêtements [25]. Ее не обрадовало, когда я заявил, что не буду с ней спать.
– Хочешь сказать, она просила тебя об этом?
У Томаса сделался страдальческий вид.
– Да, Элис. Она просила меня. Натали злилась, и у нее на то было много причин. Она была издерганной. Думаю, она хотела переспать со мной, чтобы самоутвердиться.
– Я не понимаю.
– Неужели?
Томас пристально на нее посмотрел, как будто пытался что-то решить, потом покачал головой и закрыл глаза.
– В таком случае мне лучше промолчать. А вообще, кто знает? Может быть, Натали подозревала, что я скажу «нет», и проверяла силу своих чар. Или ей просто захотелось того, чего она не могла получить.
– Натали? Верится с трудом.
– Разве тебе никогда не хотелось чего-то, чего ты не могла получить?
– А ты как думаешь?
Она выставила вперед руки, боясь представить, какой он ее видит. Чудовищные углы пальцев, крючковатые, напухшие суставы. Как будто ее сложили из запасных частей. В голове у нее был список «хочу», который она никогда не проговорит вслух, в котором никогда не признается из страха, что все подумают, будто она себя жалеет. Я хочу снова держать в руке анатомический скальпель. Я хочу гулять в лесу одна. Я хочу, чтобы меня перестали спрашивать, как я себя чувствую, как держусь. Я хочу забыть имена всех докторов и медсестер, которых знала, а также имена их жен, мужей и детей. Я хочу покупать одежду, которая застегивается на пуговицы, и обувь с узкими носками. Я хочу, чтобы все прекратили советовать мне понизить планку…
– Не надо было тебя об этом спрашивать.
– Да, не надо было. Ты ничего не знаешь обо мне и моей жизни. Ты не знаешь, каково это – бояться, что начнешь презирать людей, которые тебе помогают, людей, которых надо бы любить. Потому что они здоровые, а ты нет, потому что они добрые, а ты злое, неприкаянное… существо. Когда знаешь, что лучше не будет, – она помолчала, и недосказанные слова «а будет только хуже» повисли между ними, – становишься наполовину невидимым. Люди перестают тебя замечать. Никто не любит слишком серьезно задумываться об особенностях болезни. Оказалось, в моем существовании все-таки есть смысл. Я служу людям напоминанием – молиться, подсчитывать шансы и благодарить судьбу, богов, хорошую карму за то, что это случилось со мной, а не с ними. Мой клуб самый худший. В него никто не хочет вступать.
Томас ошарашенно на нее смотрел:
– Элис.
– Просто оставь меня в покое. Пожалуйста.
– Не могу.
Он встал и протянул ей руку. Элис не шелохнулась, и тогда Томас наклонился, чтобы привлечь ее к себе. Он поднял ее и отнес на канапе, потом сел рядом и принялся кончиком пальца рисовать на ее плече маленькие круги, едва касаясь кожи. Все внутри нее казалось отягощенным и грузным, словно кто-то вскрыл ей голову и до краев засыпал ее камнями.
– Что из этого самое страшное?
– Не спрашивай.
– Ты сказала, что я тебя не знаю. Я хочу узнать. Я хочу, чтобы ты назвала мне то, что хуже всего остального, то, о чем ты больше никому не рассказывала.
– Зачем?
– Затем, что я прошу тебя, Элис. Я пытаюсь понять, а я почти никогда этого не делаю. Я хочу знать.
Элис одолевал сон. Ее губы зашептали в шею Томаса.
– Я боюсь, что, если убрать боль, от человека, которым я должна быть, ничего не останется. Иногда я не могу отделить себя от нее. Я думаю о том, что, когда не станет меня, боли тоже не станет. Мы наконец перечеркнем друг друга. Возможно, будет так, словно я и вовсе не жила.
Потом, не в силах оставаться в комнате и при этом не желать, чтобы Томас коснулся ее, она отстранилась от него, медленно встала и пожелала ему спокойной ночи.
Утром Элис вышла из гостевой комнаты в широченной джинсовой рубашке, которую нашла в шкафу и сумела натянуть через голову, и в тех же свободных штанах. Томас сидел в одном из кресел у камина, в котором с ночи осталась горстка золы. У кресла стоял мольберт с пустым холстом среднего размера.
– А ты лентяйка, – сказал он. – Никогда бы не подумал о тебе такого. Я часами ждал, чтобы ты шевельнулась. Но ты продолжала спать, не замечая ни запаха кофе, ни грохота кастрюль.
– Так это были кастрюли? Я думала, нас бомбили.
Она задержалась в дверях, влекомая легкостью его знакомой шутливой манеры. Новая встреча с Томасом воскресила в ней что-то давно утраченное: любовь к беседе, радость добродушного подтрунивания. Но было странно находиться в его доме в столь ранний час. Комнату, тепло принявшую Элис прошлой ночью, теперь тяготила формальность утра, и она мешкала, не зная, уходить ей или оставаться.
– Иди сюда.
Она подошла к Томасу, и он мягко усадил ее к себе на колени. На подлокотнике кресла, под его правым запястьем, лежал шарф.
– Я не могу делать некоторых вещей, но стоять мне еще по силам.
– Таблетки, – сказал он, пропуская ее реплику мимо ушей и указывая на собрание пузырьков в углу стола. – Я все принес. И есть французский тост, если тебе нужно принимать их с едой.
Элис не знала, о чем больше волноваться: о том, что Томас копался в ее вещах, или о том, что она, по всей видимости, не слышала сквозь сон, как он уходил и приходил.
– Тебя не тревожило, что Эвану это может не понравиться?
– Мы с Эваном старые друзья. В межсезонье он присматривает за большинством домов вдоль дороги. Кроме того, я не хотел давать тебе повод уйти. Так, которые из этих ты пьешь по утрам?
Элис перебрала пузырьки, и Томас протянул ей стакан воды, покачав головой при виде мозаики таблеток у нее на ладони. Она смущенно их проглотила.
– Положи руку сверху на мою.
Элис послушалась, и Томас левой рукой свободно обвязал их запястья шарфом.
– Что ты делаешь?
– Экспериментирую. Смотри.
Левой рукой он вложил между их пальцев кисточку. Потом поднес правую руку к палитре и точным движением захватил насыщенной темно-синей краски. Он приблизил их руки к холсту и остановился.
– Дальше ведешь ты.
– Я не могу.
– Конечно, можешь. Не обдумывай это, просто закрой глаза. Что бы ты нарисовала, если бы умела рисовать? – Он умолк и рассмеялся. – Глупый вопрос. Птиц, конечно. Oiseau. Uccello. Vogel. [26] Хорошо, представь стаю в полете. Не думай о том, что ты видишь. Представляй, как они тебя удивляют, как у тебя от них захватывает дух. Думай о том, что ты чувствуешь, вот так, – он опустил левую руку на основание шеи Элис, а потом обнял ее за талию. – Это и нужно рисовать.
Его рот, как он близко к ее уху. Она представила, как стая дроздов поднимается к небу темной пеленой; их крики сливались в единый хор, заглушая даже стук ее сердца. Ее рука задвигалась взад-вперед в мерном ритме, порхая на руке Томаса, как в невесомости.
– Вот так. Открой глаза.
Элис открыла сначала один глаз, потом второй и поразилась тому, что увидела на холсте: бледное небо, прорезанное мазками, напоминавшими птиц в полете.
– Это мы нарисовали?
– Ты.
Элис понравилось создавать (каким бы примитивным ни было ее творение), вместо того чтобы изучать или документировать.
– Давай еще. Я хочу нарисовать твой дом. Каким я увидела его вчера с озера, под дождем.
– Рад видеть, что ты умеряешь свои амбиции. Мы, конечно, можем нарисовать все, что вздумается. Только мне не хочется, чтобы ты тратила всю свою энергию на один порыв.