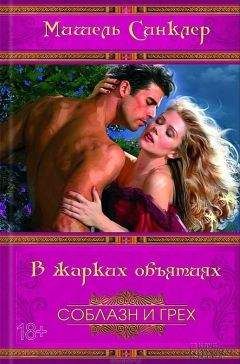Венецианский бархат - Ловрик Мишель
А он тем временем пытается задобрить меня и спрашивает, не принесла ли я с Риальто новых рассказов о привидениях. Но я обрываю его, подсунув ему тарелку с недозрелой малиной и стопку писем от кредиторов.
– Давай пойдем в постель, – предлагает он, словно она не была уже осквернена.
Мы занимаемся супружеской разновидностью любви. А я думаю о том, какой она бывает еще.
Ночью меня, словно кокон, окутал Ее запах, и глаза мои тут же распахнулись, словно и они могли нюхать воздух. Внутри у меня все вскипело, когда я подумала, что он притворяется, будто спит, и я едва не взорвалась, когда поняла, что он действительно уснул. А он имел наглость засопеть, причем так, как я любила, издавая негромкое ворчание. Его утренний поцелуй показался мне липким и противным, как голос коробейника.
Неужели нашей невероятной любви оказалось ему недостаточно? Из всех его подлых поступков этот – самый отвратительный, из всех грязных дел это – самое омерзительное. Уж лучше бы он избил меня отливками для букв и отпечатал на мне синяк в форме буквы S – ее ведь зовут именно так, Сосия, верно?
Сердце мое разрывается от горя, когда я думаю о том, что он был с ней. Я жажду узнать мельчайшие подробности. Она продает ему свое тело – но как? По часам, по минутам, по поцелуям?
Стоит мне подумать, что мое любопытство удовлетворилось и умерло, как появляется что-нибудь новое, и оно вновь расцветает пышным цветом. Даже сейчас я спрашиваю себя, а действительно ли он ушел в stamperia? Или забавляется с какой-нибудь потной проституткой в темном переулке?
Неважно, кто вы – скромная порядочная жена или особа, которая выставляет свои бедра напоказ всему городу, все всегда заканчивается одинаково.
Суд на Сосией взбудоражил жителей города. На десятую ночь у ее камеры толпа собралась внезапно и неожиданно, словно просочилась сквозь камни Пьяццы, подобно acqua alta [212]. Похоже, все они весьма смутно представляли себе, что им нужно от ведьмы-еврейки; создавалось впечатление, что они просто хотели оказаться как можно ближе к ней. Воздух вокруг ее камеры был сухим и лихорадочно горячим. Люди столпились у входа на крытую галерею тюрьмы, толкаясь и лягаясь, чтобы занять место получше.
Это мало походило на обычное сборище. На этот раз люди привели с собой жен и детей. Казалось, будто преступления, совершенные Сосией, заставили их объединиться в своем неприятии и праведном гневе.
Каждую ночь на протяжении трех дней подряд они собирались здесь, наблюдая и выжидая, словно рассчитывая в любую минуту получить нужный сигнал. Те, кто оказался ближе всех к решетке, сообщали о каждом движении Сосии в камере. Их слова передавались шепотом по толпе, так что новости расходились с потрясающей быстротой, как круги на воде. Услышав же: «Она повернулась на соломе спиной к нам» – люди даже удовлетворились ненадолго, сложив руки на груди и в унисон покачивая головами. Но с каждой ночью напряжение нарастало, а народу приходило все больше.
Погода как будто сговорилась с толпой, внося свою лепту в атмосферу подспудного ужаса. Ночь за ночью зарницы полосовали небо, но со свинцовых туч на землю не сорвалось ни капли влаги.
Фелис Феличиано стоял у окна своей комнаты в гостинице «Стурион» и смотрел на толпу, собиравшуюся внизу по вечерам, чтобы отсюда двинуться на Сан-Марко. Он смотрел на нее каждый вечер, будучи не в состоянии лечь в постель и заснуть.
Судьба Сосии не причинила ему особых страданий, но случившееся он перенес довольно тяжело. Оно повлияло на него так, как Фелис и представить себе не мог. Все дело в том, что Бруно был уничтожен и раздавлен, и смириться с таким положением вещей Фелис не мог.
«Почему, – думала Сосия, лежа в тысяче ярдов от него, – они не могут оставить меня в покое? Больше мне ничего не нужно. Пусть они все уйдут и умрут. За исключением Фелиса. Почему он не приходит навестить меня?»
Зато к ней вернулся невысокий мужчина с инородным мозжечком. Посреди ночи она услышала его дыхание, от которого запотели прутья решетки. Завидев ее, он почти немедленно возобновил свои шумные движения под накидкой.
– Привет, малыш, – сказала Сосия, – ты ведь священник или кто-то вроде него, верно? Или незаконнорожденный раб какого-нибудь священника? Да?
Он поморщился, но оказался слишком увлеченным своим занятием, чтобы остановиться.
– Господин мальчик священника, я должна вам кое-что сказать, – заявила Сосия, садясь на соломе. – То есть сделать признание. Исповедаться. Слушайте или уходите.
– А‑а‑а, – неразборчиво пробормотал Ианно, но не тронулся с места.
– Знаешь, дружок, здесь очень интересно. Полагаю, тревожное ожидание всегда вызывает интерес. Тревога и беспокойство… Глаза твои начинают замечать то, на что раньше ты не обращал внимания. Произвольное расположение предметов обретает характер, который иначе как угрозой и не назовешь. Проходящий мимо незнакомец кажется заслуживающим доверия. Ты начинаешь относиться ко всему чересчур строго – почему именно три листочка с описанием моих преступлений и вынесенного мне приговора приколоты на стене? Аккуратно отпечатанные, но составленные безграмотно. Смотри, здесь допущены четыре ошибки… Я пришла к заключению, что раздражение и стремление порицать всех и вся – эта та небольшая власть, которая у меня еще остается.
Ианно прервал свое занятие и придвинулся поближе. Он никак не ожидал, что она заговорит с ним, да еще столь красноречиво. Никто и никогда не отзывался о ней как об «умной еврейке» – ее называли только и исключительно «грязной еврейкой». Он пока еще не знал, как правильно воспользоваться своим новым знанием об этой женщине, но оно произвело на него успокоительное действие – эрекция его начала уменьшаться. Он разочарованно опустил глаза на свой пах.
Сосия продолжала:
– Время растягивается, становясь сотканным из разрозненных частей. Когда ты не знаешь, что будет дальше, каждый миг превращается в начало нового периода тревожного ожидания. Одиночное заключение утомляет до чрезвычайности; тебе нужны дополнительные доказательства того, что время идет, дабы убедить себя в том, что ты еще жив.
Ианно шмыгнул носом. Он готов был согласиться с этим утверждением, вспоминая долгие часы, проведенные им в неблагодарных трудах, когда он разносил листовки для фра Филиппо или переписывал бесчисленные отрывки из непристойных книг для своего хозяина, и что он получил в знак благодарности?
– Чтобы убить время, я рассказываю себе всякие истории, но только правдивые.
Голос ее зазвучал глуше и мягче, словно она с головой погрузилась в собственные воспоминания.
Он подобрался еще ближе и ухватился за один из прутьев. Сосия подняла глаза на его мускулистую руку, обхватившую металл.
– Будешь слушать дальше?
– М‑м‑м.
– Ну вот, я выбрала тебя, чтобы рассказать обо всем. Кое-кто из тех мужчин, что трахали меня, умоляли меня поведать эту историю им. Они думали, что, рассказав ее, я избавлюсь от ненависти, живущей у меня внутри. Они думали, что надо мной надругались. Другие говорили, что, описав свою боль, я выпущу ее наружу. Но я ничего не рассказала никому из них. Я оставила их в недоумении. Я не хотела излечиваться от ненависти, потому что это сделало бы меня слабой. Не хочу и сейчас, зато у меня появилось желание поговорить об этом. Ты ничего не имеешь против, господин мальчик священника?
Ианно согласно кивнул.
И Сосия рассказала ему свою историю. Она поведала ему о том, как родилась в Далмации и как жила в глухой провинции, находящейся под формальной властью Венеции. Венецианцы приходили и уходили, требуя дань, забирая все мало-мальски красивое из церквей и домов и ничуть не беспокоясь о населении, которое присоединили к своей империи из сугубо стратегических соображений.
Сосия рассказала Ианно о маленьких, но кровавых гражданских войнах, не представлявших ни малейшего интереса для Венеции, которые вспыхивали непонятно из‑за чего и столь же быстро угасали, наполняя кладбища новыми могилами. Она рассказала ему о солдатах, которые убили ее дедушку и бабушку, и о том, как сама лишилась любящего материнского взгляда.

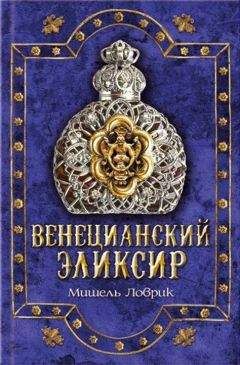
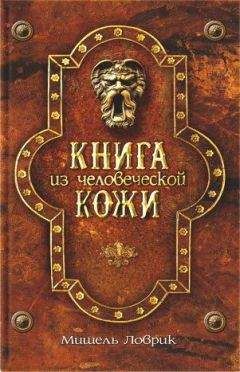
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](/uploads/posts/books/159613/159613.jpg)