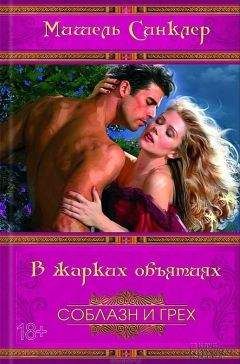Венецианский бархат - Ловрик Мишель
От усердия капюшон его накидки наполнился воздухом, и Сосия заметила отвратительное уродство, которое, подобно мозжечку, пульсировало у него над левым ухом.
– До скорой встречи, малыш, – сказала Сосия, глядя на его удаляющуюся тень.
Венделин фон Шпейер особенно не интересовался тем, что случилось с Сосией Симеон. Он знал, что репутация бедного доктора наверняка пострадала, но не верил, что еврей любил ее так, как Венделин любил собственную жену, со всем пылом сердца и чресел, всей силой своего ума и души.
Проходя мимо толпы, собравшейся на берегу, он спрашивал себя, сколько из них владеют грамотой. А потом пытался высчитать, кто из этих грамотеев предпочтет читать отвратительные памфлеты фра Филиппо, а не книги, которые, собственно, и вызвали эту бумажную бурю оскорблений. Катулл по-прежнему продавался, но теперь уже изредка и понемногу. Первый его тираж уже почти закончился. Но Венделин не мог заставить себя отдать распоряжение напечатать второй, во всяком случае, пока дела обстояли так, как сейчас.
В городе только и говорили, что о скандале с женой доктора, и, пока все головы были заняты мыслями о ней, никто не станет думать о том, чтобы купить любовную поэзию.
По мосту, рядом с которым находилась камера, где сидела Сосия Симеон, взад и вперед вышагивали толпы мужчин и женщин. Венделин не ощущал в себе желания смотреть на нее, равно как и откладывать ее лицо в памяти. У него и без нее хватало забот, изрядно портивших ему жизнь. Он видел, как люди в толпе вытягивают шеи, чтобы взглянуть на нее, а потом быстро проходят мимо.
«Венецианцы скользят по ступенькам, словно взбивают рябь на воде, – вдруг заметил он. – Я же по-прежнему ступаю тяжело и грузно. Почему у них это получается, а у меня нет?» – озадаченно размышлял он, словно ребенок, который пытается понять, существуют ли ангелы на самом деле.
Он скомкал страницы своего последнего письма к падре Пио.
…мой дорогой падре, – писал Венделин, – женщины плюют мне вслед на улицах. Они полагают меня безбожником! И мне кажется горькой ирония судьбы, которая заключается в том, что свирепая жестокость Церкви направлена на лучшую книгу и самого великого автора, произведения которого когда-либо сходили с моего станка. А фра Филиппо приберег эту ненависть для самого замечательного певца любви.
Я никогда не задавался вопросом: «Нужно ли печатать книги?»
Я смеялся над своей женой, когда она открыто порицала слова и книги. Теперь ее точка зрения стала мне куда более понятной.
Имея в своем распоряжении лишь маленькие, достойные сожаления слова, можем ли мы надеяться на что-либо большее, нежели просто уловить отдаленное эхо истины? Более того, это слабое эхо становится неподвижным, словно бабочка, наколотая на булавку. Люди, которые читают книги, говорят одно и то же и вскоре теряют способность использовать собственное воображение. Они начинают верить в то, что знания доступны им только в печатном варианте. Какой яркий пример беспомощности человеческого интеллекта!
Истину нельзя передать словами. Вы понимаете это только тогда, когда держите кого-нибудь за руку и смотрите ему в глаза или когда влюбленные разговаривают друг с другом молча, но весьма красноречиво, лишь прикосновениями пальцев. Не забывайте, мне довелось узнать, что это такое – счастливый брак, и мне известно это по собственному опыту, из жизни, а не из книг.
К чему сравнивать гарнитуру шрифта Жансона с моей? Какой смысл сопоставлять яйцевидные выпуклости букв Roman с волшебными завитушками Gothic? [211] Какое это имеет отношение к жизни, истине или вообще чему-либо важному и значимому?
Я потерял веру, мой дорогой падре. Признаюсь в этом Вам одному и больше никому. Я вспоминаю Иоганнеса Сиккула (казненного печатника), то, как его отрубленная голова скатилась в корзину, и чувствую, как с моих собственных плеч падает огромная тяжесть. Эта тяжесть – моя честная немецкая искренность, которая в Венеции стала, увы, бесполезной.
Мы с Иоганном приехали сюда, потому что она – большая торговая метрополия. Мы прибыли сюда не паразитами. Мы приехали, исполненные веры и предприимчивости. Благодаря своей отваге и трудолюбию мы сделали Венецию центром литературной активности во всей Европе. Мы печатали своды законов, Библию, классику, филологическую литературу, труды по медицине, географии и астрологии; мы напечатали их больше, чем кто-либо иной. Наши книги попадают за границу: в Германию, Францию, Испанию, Голландию, Бельгию, Люксембург и даже в Англию, принося деньги и создавая рабочие места для целых династий венецианцев. И что же мы получили в благодарность от Венеции за свои труды?
Что представляет собой лагуна, если не сырую могилу для наших надежд?
Почему я должен зря тратить свое время на венецианцев? Их совершенно не волнует, что находится внутри книг. Они покупают их только ради красивых обложек. В последнее время, к стыду своему, я даже экспериментировал с ароматическими красками, чтобы понять, не помогут ли они вновь возбудить пресытившихся венецианцев. Я наряжаю свои книги, словно павлинов или шлюх.
Теперь я понимаю, что здешний fondaco – это всего лишь большая птичья клетка для немцев. Мы квохчем и несем золотые яйца, которые скатываются по лестницам в подставленные жадные руки венецианцев.
Говорят, что наши письма вскрываются и прочитываются, и если это действительно так, то из‑за этого письма меня наверняка ждут куда худшие неприятности, чем раньше. Но, оказывается, меня это больше не беспокоит.
Вы спрашиваете о моей супруге. Не знаю, что и ответить Вам. Прошу Вас, не задавайте мне больше таких вопросов. Просто молитесь за нее.
Венделин расправил скомканные страницы и сунул их в рукав. Как всегда, мысли его вновь устремились к жене, к шороху ее волос, когда она распускала их на ночь, к темным зрачкам ее карих глаз, устремленных на него, когда она, лежа в кровати, ждала его. Разумеется, эти дни остались в прошлом: теперь он знал, что она не хочет видеть его в своей постели. Она слишком ослабела после болезни и нуждалась в спокойном сне, который не нарушался бы неловкими движениями его крупного тела. А в последние дни она вообще стала страшиться того, что одним толчком он может разорвать ее худенькие бедра напополам.
Он покачал головой, стараясь прогнать от себя эти мысли. Их место тут же занял образ Бруно Угуччионе, который так любил эту Сосию. Бедный Бруно, он превратился в еще одного призрака, который тревожил его покой, помимо жены. Эти двое, супруга Венделина и его любимый работник, стали настолько эфемерными, что вполне могли уместиться в совершенно новой, третьей личности.
Он принялся размышлять о том, как их фигурки, самые чудесные из всех, какие он только знал, – пухленькие, с полагающимися выпуклостями и изгибами, облаченные светящейся кожей, – обрели почти призрачную худобу, и потерянная плоть унесла с собой их счастье. Оба казались щедро наделенными всем, что только могло обещать тело, а сейчас они походили на изголодавшихся нищих.
Хуже того, его жена, кажется, думает, что… Она думает, что стала ему неприятной. Как такое могло прийти ей в голову?
К Сосии пожаловал безногий нищий с пустыми штанинами. Он приполз на коленях, проделав весь путь от Занниполо, чтобы взглянуть на проститутку из Далмации, которая вот-вот должна была получить по заслугам. Он не мог забраться достаточно высоко, чтобы заглянуть в ее камеру, поэтому ему пришлось довольствоваться литанией самых черных ругательств на их общем языке, пока он не выбился из сил, бормоча отдельные слова под ее окном, словно молитву.
– Poljubi mi cello kurca! Поцелуй мой член в головку! – сказал он ей. – В прошлый раз тебе понравилось это проклятие. А как оно нравится тебе теперь, моя красавица? Судя по тому, что о тебе говорят, ты готова была расцеловать любую часть тела мужчины, если только она оказывалась достаточно близко от тебя.

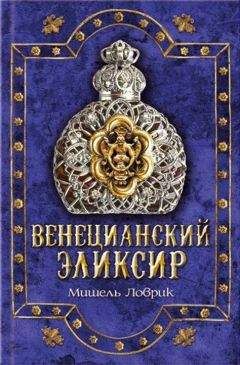
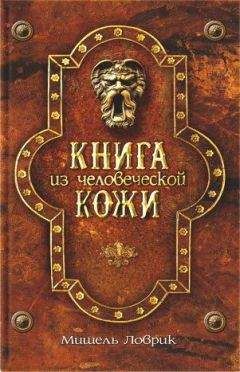
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](/uploads/posts/books/159613/159613.jpg)