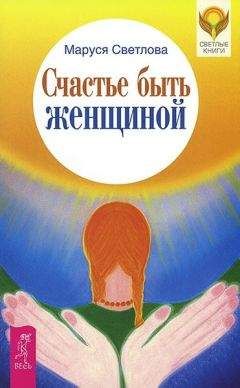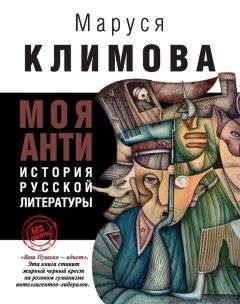Анна Берсенева - Мурка, Маруся Климова
– Постарайся с ней договориться, – сказал отец. И пояснил, заметив недоумение в глазах сына: – Именно ее я, конечно, не знаю, но вообще-то таких, как она, представляю неплохо. Раздражать эти дамы могут страшно, но зато в них есть... Незыблемость в них есть, вот что. Я, знаешь, когда-то в молодости у Чехова прочитал: в жизни все имеет форму, что теряет форму, то кончается. Тогда мне это не очень было понятно. Так, по краю сознания прошло. А потом я те слова часто вспоминал. У теток этих, вроде твоей завучихи, глупостей в голову много насовано. Но форму они хранить умеют, и жизнь вокруг себя организуют правильно. Так что не горячись.
Отец произнес эту необычно длинную фразу спокойно, но Матвей все же заметил, что он устал. Он вообще уставал в эту неделю от таких усилий, которые прежде и усилиями-то не считал. И Матвей понимал, как это его угнетает.
– Мне тут по одному делу отъехать надо, – сказал он, вставая. – Через полчаса вернусь.
Никуда ему, конечно, не надо было. Просто он хотел, чтобы отец отдохнул в эти полчаса. А вернуться собирался потому, что, приезжая с мамой в разное время, всю неделю ее не видел и теперь хотел с ней поговорить. По телефону голос у нее был спокойный, но Матвей знал, как хорошо она умеет владеть собою. Восемь лет их общего несчастья убедили его в этом как нельзя яснее.
Из-за того, что некстати вспомнились эти восемь лет, Матвей уехал из больницы сердитый. И все полчаса, которые сидел над чашкой чая в кафешке за углом, никак не мог успокоиться. Все напоминало о ней, все! И чай, который она заедала мокрым сахаром, и даже то, что одна нога у него сегодня каким-то непонятным образом промокла, точно как у нее в тот вечер, когда она так смешно дрыгала сапогом на остановке...
Полчаса наконец прошли; можно было возвращаться в больницу.
Матвей подошел к палате и поморщился: из-за двери слышался чей-то голос, и не похоже, чтобы мамин или Антошин. Прежде чем он успел сообразить, кто это может навещать отца, ведь к нему никого, кроме родных, не пускают, – дверь палаты открылась, и в коридор вышла Маруся.
Это было так просто – дверь открылась, и вышла Маруся, – как будто ничего естественнее в жизни быть не могло. Она тихо закрыла за собою дверь и только после этого заметила Матвея, застывшего в двух шагах от нее. Она как будто во вспышке света оказалась, так ясно он видел ее в полумраке коридора.
Она очень изменилась за две недели, в которые он видел ее не наяву. Он не понимал, что именно изменилось, но это было для него очевидно. Он не мог ни пошевелиться, ни произнести хотя бы слово.
– Не сердись, – сказала она. – Я один раз только пришла, а больше не буду.
Она сказала это так, как будто они не расставались. Но она ведь не могла знать, что он в самом деле не расставался с нею все это время! Почему же так спокойно звучит ее голос?
И, непонятно отчего вдруг, подумав про это, Матвей почувствовал, что его охватывает сильная, настоящая, неодолимая злость!
Зачем она встретилась ему однажды, зачем встречается снова и снова, зачем вообще родилась на белый свет эта мучительная девочка, от которой ему нет ни сна, ни покоя?!
– Чего ты хочешь?.. – чувствуя, что от этой захлестывающей злости у него белеет лицо, сквозь зубы проговорил Матвей; злость клокотала у него и в горле. – Чего тебе еще не хватает?!
– Я... ничего... – Она смотрела испуганно и виновато. – Я просто... люблю его и только хотела ему это сказать, потому что он все-таки волновался из-за меня, мне твоя мама сказала, что он все это время знал, где я, что со мной, и поэтому я... Ему же нельзя сейчас волноваться!
Эти последние слова она проговорила с отчаянием. Слезы зазвенели в ее голосе, как колокольчики в музыкальной шкатулке. И, неловко махнув рукой, бросилась бежать по коридору – прочь от Матвея, снова прочь!..
Глава 10
Впервые в жизни Антонина Константиновна чувствовала растерянность.
Она только теперь осознала, что прежде не терялась ни от чего и ничего не боялась. Правда, собственная жизнь и не казалась ей какой-то особенно трудной. Большая ее часть пришлась на такие годы, когда трудно было всем, и гораздо труднее, чем ей, у нее-то хоть жилье всегда было. Но все-таки она понимала, что случались в ее жизни очень нелегкие ситуации. И беспросветность с матерью, и потом, когда она осталась в тринадцать лет одна и пришлось работать, чтобы не умереть с голоду; да мало ли когда еще! Но все же ни одна из этих ситуаций не казалась ей безысходной. Сначала она не знала, почему это так, а узнала потом, после Глуболья.
И только теперь, когда сын так неожиданно заболел, она почувствовала растерянность перед жизнью. Дело было, конечно, не в больничных заботах. Заботы, и не только больничные, сопровождали ее всегда, к ним она привыкла. Но беспомощность, зависимость – это было настолько несвязываемо с Сережей, что казалось невозможным.
Она вдруг поняла, что мир ее сына вот-вот может обрушиться. А этот мир с самого начала, с самого его рождения, был особенный – самостоятельный, отдельный, ей непонятный и нерушимый. Конечно, все связанное с сыном вовсе не было безмятежным, особенно его годы с той мучительной женщиной дались Антонине Константиновне нелегко. Но ощущение воли и силы – она чувствовала суровую надежность этой силы – было с ним связано всегда и накрепко.
И вот теперь, глядя на него, обессиленного и бессилием своим растерянного, она растерялась сама.
Если бы не Матвей, Антонина Константиновна совсем не знала бы, что делать. Он ничего особенного не говорил ей, ничего особенного и не делал, просто приезжал каждый день, обсуждал с Сергеем какие-то свои дела и даже не оставался надолго, потому что торопился на работу, – но все менялось в ее душе с его появлением. Растерянность уходила, тревога развеивалась, и настоящее и будущее переставало казаться безысходным. Матвей был такой близкий ее сердцу, такой родной ее мальчик, что она даже не удивлялась этой его удивительной способности. Он был для нее таким с самого рождения, и она чувствовала его как себя, а иногда и лучше, чем себя. Во всяком случае, за себя она никогда не волновалась так, как за него.
Она знала, что сегодня он приедет в больницу вечером, поэтому они не встретятся, как встречались, когда он приезжал утром и дожидался ее в палате. А сегодня он, значит, встретится с мамой: Анюта придет как раз к тому времени, когда он соберется уезжать.
Антонина Константиновна даже с удовольствием думала обо всех этих мелочах, они и мелочами ей совсем не казались. Может, это было просто старческое отношение к жизни, а может, оно происходило не от возраста, а оттого, что мелочи эти были связаны с Матвеем.
И так, думая об этих важных мелочах, она сидела в квартире на Малой Дмитровке, ждала Анютиного возвращения и листала старые книжечки стихов с папиной – то есть это в юности она думала, что с папиной, а потом узнала, что с Асиной, – полки. Выхватывались знакомые строки, вдруг становились незнакомыми, непривычно завораживали... Иногда из кабинета доносился жалобно-обрывистый звон колокольчиков. Анюта не успела отдать реставратору музыкальную шкатулку, и она то и дело пыталась сама собою сыграть свою любимую простую песенку.