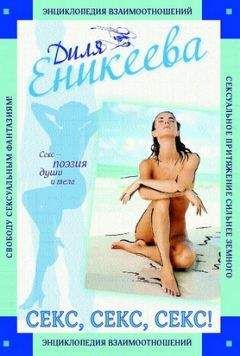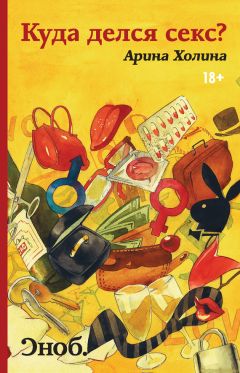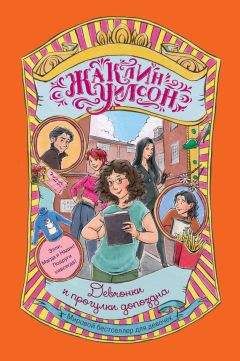Меган Харт - Грязная любовь
Конечно, я и слышать не захотела ни о каком отеле. И уж тем более не тогда, когда в моем доме пустовали две спальни. Было так приятно, что он со мной. Что есть с кем выпить кофе утром. Для кого сварить яйца. Что есть кто-то, кто так хорошо меня знает, что мне не нужно ничего объяснять. По вечерам мы ходили на ужин, в кино, на танцы. Мы часами болтали на моем диване, смотрели эпизоды из «Придурков из Хаззарда» и спорили, кто из двух кузенов сексуальнее: Бо или Люк. Чад утверждал, что их притягательность только возросла бы, если бы они поцеловались, переплетя языки. Я захохотала как сумасшедшая и рассыпала попкорн.
– Мне тебя очень не хватало, – сказала я, когда мы пили горячее какао с взбитым маршмеллоу. – Мне бы даже хотелось, чтобы ты подумал над возвращением домой.
Чад выпучил на меня глаза:
– Ты знаешь, что я не могу.
Я вздохнула:
– Знаю. Из-за Люка.
– Не только из-за него. У меня работа. Дом. Целая жизнь.
– Знаю, знаю. – Я махнула рукой. – Ты просто так далеко, вот и все. Мы нечасто видимся.
– Ты могла бы приезжать почаще. Люк тебя обожает, куколка. Все вместе занялись бы шопингом.
Я подняла бровь:
– Он что, считает, что мне нужен новый гардероб?
Чад засмеялся:
– Ты сказала это, не я. Мы бы обрядили тебя в одежду цвета повеселее, чем черно-белый.
– С моей одеждой полный порядок.
– Элла, детка. Милая. Мир раскрашен не только в черно-белые цвета. – Мой брат оглядел гостиную. – Эту комнату также можно было бы оживить другими цветами. Столовая сказочная. Пусть таких комнат в твоем доме будет побольше.
– Я люблю черно-белый фасон.
– Знаю, детка. – Чад взял мою руку и поцеловал. – Знаю. Ты скажешь маме, что я здесь? – Он поставил кружку на кофейный столик.
Я не сразу ответила.
– Ты этого хочешь?
Он пожал плечами. Нечасто случалось, чтобы Чад не улыбался или не откалывал какой-нибудь шуточки. Он поднял голову. Наши взгляды встретились, и я увидела в его глазах свое отражение.
– Не знаю.
Я понимающе кивнула:
– Если ты не хочешь, я не скажу.
Он вздохнул, потирая лицо.
– Люк говорит, что я должен ей сказать. Мой психоаналитик говорит то же самое.
Я взяла его руку.
– Чад, я лучше их знаю, почему ты не хочешь. Но может, когда-нибудь это надо сделать?
Чад сжал мои пальцы.
– А ты? Надрала прошлому задницу?
Я издала смешок.
– Надрала задницу? Нет. Если только палец ему прищемила.
– Элли, а что с твоим парнем? – Мой брат запустил пальцы в дырочки в шерстяном покрывале и стал дергать нити.
– Он поехал со мной домой, когда умер отец. Познакомился с мамой. Она не запрыгала от восторга.
– Он поехал вместе с тобой? Домой?
Я кивнула. Чад откинулся назад – то ли он был шокирован, то ли обалдел от моей новости. Я не могла этого сказать. Он снова почесал лицо.
– Ты ездила домой.
– Это всего лишь дом, Чадди. Четыре стены и дверь.
Мы переглянулись, и он, не колеблясь, наклонился и обнял меня. Я не хотела плакать, но заплакала, увлажняя плечо его рубашки. Это был пустяк. Чад тоже заплакал.
– Я не хотел оставлять тебя одну, Элла, – прошептал он, крепко прижимая меня к себе. – Ты знаешь. Я не хотел уезжать и оставлять тебя с ним. Но я должен был вырваться!
– Я знаю. Знаю.
Я протянула ему салфетку, чтобы он протер лицо, и вытерла свое. Мы говорили так долго, что у нас охрипло горло, а в животе заурчало, так как за разговором мы забыли о еде. Мы плакали. Кричали. Бросали вещи. Снова плакали и сжимали друг друга в объятиях. А иногда мы даже смеялись.
– Должно быть хоть что-то хорошее, – сказал Чад. – Что-то хорошее, чтобы мы могли о нем вспомнить, Элли. Так мы сумеем забыть.
Мы забрались на диван, под покрывало, касаясь друг друга подошвами. На полу валялись бумажные салфетки. Мои подушки хранили следы нашего безумства. Остатки сэндвичей, сделанных в перерывах между нашим неистовством, засыхали на кофейном столике.
– Он хорошо играл, – предложила я. – Такой американский парень.
– Не давал меня в обиду.
– Это уже два хороших качества, Чад. Мы нашли целых два качества.
Чад улыбнулся:
– Мой консультант сказал бы, что это уже прогресс.
Я тоже улыбнулась:
– И он прав.
– Проще вспомнить все плохое, что он делал. Наркотики. Воровство. И все остальное.
– Ты можешь сказать это вслух, – произнесла я. – Если так тебе будет легче.
В глазах брата снова заблестели слезы.
– Я пытался остановить его, когда он стал делать все эти мерзости. Когда сказал маме, что я гей.
– Я помню.
– И даже когда ты порезала вены, она не стала слушать. Сделала вид, будто ты ничего не говорила. – Его руки сжались в кулаки, а мое сердце переполнилось любовью к нему в ответ на его любовь ко мне.
– Я не виню тебя, Чад. Ты тоже себя не вини, пожалуйста. Ты был еще ребенок. Тебе было всего шестнадцать.
– А тебе – всего восемнадцать.
– Теперь мы уже взрослые. А он мертв.
– Я до сих пор не могу заглушить в себе чувство вины за то, что обрадовался, когда узнал. Отец позвонил, чтобы сказать мне, что Эндрю убил себя, а я сначала засмеялся.
Я этого не знала.
– О, Чад…
Он пожал плечами:
– Мне нужно было тогда прийти домой.
– И что бы ты смог изменить? Она все равно превратила мою жизнь в ад. – Я покачала головой. – Но знаешь, мы оба через это прошли, и теперь посмотри на нас. У нас отличная работа. У нас есть свои дома. У нас есть жизнь. У тебя есть Люк. Мы сделали это, Чад. Мы неплохо живем.
– Мы? – мягко спросил он. – И ты?
– Я пытаюсь, – ответила я. – Я правда пытаюсь.
– Я тоже.
То, что меня понял человек, который знал, в каком аду я жила, принесло мне гораздо больше пользы, чем дюжина психоаналитиков. Мы оба выжили в том доме и перестрадали то, что происходило в его стенах.
– Он мог заставить маму смеяться, – сказала я чуть погодя. – А когда она смеялась, она любила всех нас так же сильно, как любила его.
– Да, – согласился Чад. – Думаю, за это его тоже можно простить.
И впервые я подумала, что, пожалуй, и вправду можно.
На кладбище я поехала с цветами. Лилии для отцовской могилы и васильки для могилы брата. Моя мать похоронила их рядом. Оба холмика были покрыты мягкой, ухоженной травой. На надгробиях выгравированы имена, даты рождения и смерти. На отцовской была надпись «любимый муж и отец». На камне Эндрю – «любимый сын и брат». Я встала на колени, положила на камни руки и чуть задрожала от внезапного порыва ветра.
Я попыталась молиться, но у меня это не получилось. Я перебирала пальцами четки, но мысли мои блуждали совсем в другом месте. Наконец я отложила четки в сторону и, сев на траву, заплакала. Слезы сами собой наполняли мои глаза и медленно текли по щекам.