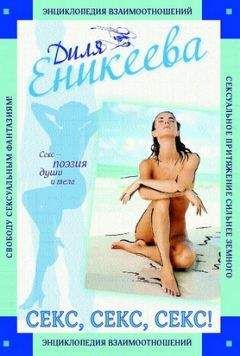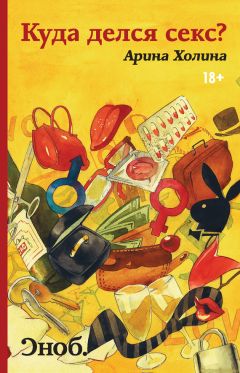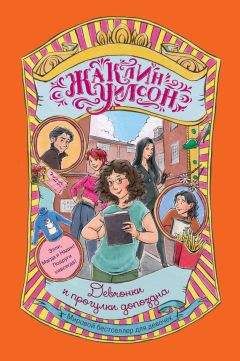Меган Харт - Грязная любовь
– Я устала, отец, жить этим чувством.
– Тогда позволь Господу взять у тебя эту ношу.
И снова он говорил искренне. Я снова пожалела, что просто не могу последовать его совету. Открыть свое сердце. Поверить так, чтобы жить мне стало более-менее легче.
– Извините, отец. Я просто не могу.
Он вздохнул:
– Все хорошо.
В его голосе послышалось уныние, а я подумала, что работа священником перестала приносить столько удовлетворения, как бывало в прошлом, когда католики не задавали вопросы, а просто молились.
– Извините, отец. Я хочу вам верить.
Он засмеялся:
– Об этом говорит уже то, что ты сюда пришла. А если у тебя не получается верить, не волнуйся. Бог верит в тебя. Он не даст тебе отступиться от Него так легко.
Я никогда прежде не слыхала, чтобы священник смеялся в исповедальне.
– Дело не в том, что я не знаю, куда бы мне запихнуть чувство вины. Или свои мысли, что в том была моя вина. Я знаю, что моей вины нет.
– Но ты вся в ранах.
– Да.
– И ты ищешь, чтобы кто-нибудь их залечил.
Я протерла лицо ладонями, чувствуя слезы на пальцах.
– Да, наверное.
– Моя работа состоит в том, чтобы сказать тебе, что ты найдешь это в церкви, – сказал священник. – Надеюсь, хотя бы об этом подумаешь.
Мне нравился отец Хеннесси – у него было чувство юмора.
– Если кто и смог бы меня убедить, отец, думаю, это только вы.
– Отрадно это слышать. Ты готова закончить свою исповедь?
– Да. – Я помедлила. – Только будьте ко мне снисходительнее, отец, я могла забыть, как это делается.
Он снова рассмеялся:
– Прочти покаяние, дитя мое.
– Давно это было. Я могла подзабыть слова.
– Тогда я скажу его вместе с тобой, – сказал отец Хеннесси.
Продолжать так не имело смысла. Мне это не нравилось. Мне надоело. Я больше не в силах была этого выносить. Поэтому я сделала вот что.
Отправилась к матери.
После смерти отца она переделала его берлогу. Большой телевизор теперь занимал угол, притаился там, словно паук в ожидании своей жертвы, – теперь об отце напоминал только он. Мать заменила его кресло диванчиком и содрала полосатые обои, выкрасила стены в веселый желтый цвет.
Она показала мне комнату, но не позволила в ней расположиться. Мы пошли на кухню, где она сделала нам обеим кофе и вытащила замороженный яблочный пирог. Я узнала в нем тот, что остался после похорон, и отказалась.
– У меня приготовлено для тебя несколько коробок. – Она зажгла сигарету, зажав между пальцами с французским маникюром. – Если ты их не возьмешь, я отдам в комиссионный магазин.
– Что в них?
Она пожала плечами:
– Так, всякое барахло.
Я помешала кофе с заменителем сахара за неимением последнего – моя мать его не держала.
– Тогда с чего ты решила, что я возьму это барахло?
– Потому что оно твое, – сказала она, словно это все объясняло.
Я не могу сказать, удивилась ли она или обрадовалась, увидев меня на пороге, – она ничем не выдала своих эмоций. Она затянулась, выпустила дым и зажмурила глаза так, что стали видны тоненькие морщины вокруг ее глаз.
– Ну хорошо. Я взгляну до отъезда.
Мы молча пили кофе. Мы никогда прежде так не сидели на ее кухне – два взрослых человека за чашкой кофе. Я ждала, когда же возникнет чувство неловкости, и правда стала чувствовать себя как-то странно.
Если моя мать испытывала то же самое, она это скрыла.
– Так как, Элла, где твой друг?
Я взглянула на нее, и она вскинула руки.
– Что? Что? Мне даже спросить нельзя?
– А тебе правда не все равно?
Она снова затянулась.
– Для тебя же самой было бы лучше, если бы рядом был мужчина.
– По-моему, ты так не думала, когда он был здесь. Моя мать всегда умела переписать события из прошлого в свою пользу.
– С чего ты это взяла? Для еврея он даже очень мил. Я со стоном свесила голову.
– О боже…
– Не в этом доме, – предупредила она. – Не произноси имя Господа нашего всуе.
– Извини. – Я отпила ее чересчур крепкого кофе.
– Если хочешь знать, я думаю, тебе давным-давно нужно было выйти замуж. Завести детей. Окунуться в реальную жизнь.
Песня была старой, но сейчас я слушала ее, стараясь понять, что могло еще крыться за ее словами.
– У меня сейчас реальная жизнь. И для этого мне не нужен муж или дети.
Моя мать фыркнула:
– Жизнь – это не только твои дурацкие цифры, Элла.
– Да, особенно учитывая, какой хороший пример мне подавался, – не осталась я в долгу.
Она затушила сигарету и скрестила руки на своей объемной груди. Искусно наложенный макияж не мог скрыть кругов под ее глазами.
– Жаль, что ты за словом в карман не лезешь. Я бы хотела, чтобы ты лучше следила за собой. И мне хочется, чтобы ты увидела, что я только пытаюсь тебе хоть как-то помочь, вместо того чтобы вцепляться мне в горло каждый раз, когда мы разговариваем.
Я держала кружку обеими руками, чтобы согреть их, но после этой фразы отставила ее и положила руки на стол. Вгляделась в нее, пытаясь различить свои черты в линиях ее подбородка, в цвете глаз, в прическе. Я пыталась увидеть в ней свое отражение, какую-то черту, доказывавшую наше с ней родство, что я когда-то находилась в ее чреве и не была следствием какой-нибудь запоздалой мысли. Что хотя бы впервые после стольких лет она смотрела на меня с другим выражением, нежели разочарование.
– Я бы хотела, чтобы мне снова стало пятнадцать, чтобы сказать Эндрю «нет», когда он спросил, люблю ли я его. И я бы хотела, чтобы он прислушался ко мне, вместо того чтобы забраться ко мне в постель.
Кровь отхлынула от ее лица, оставив два ярких красных пятна на щеках. На какое-то мгновение у меня мелькнула мысль, что она просто хлопнется без сознания. Или, может, закричит.
Вместо этого она с такой силой влепила мне пощечину, что я откинулась назад в своем стуле. Я положила руку на запылавшую щеку. Затем взглянула ей прямо в глаза:
– И я бы хотела, чтобы ты перестала винить в этом меня.
Я напряглась в ожидании следующего удара или кофе в лицо, может быть, криков и обвинений. Я была совсем не готова к тому, что она сделала. Она заплакала.
Настоящие, крупные слезы заполнили ей глаза и стали стекать по лицу. Они капали с подбородка, оставляя темные пятна на ее шелковой голубой блузке. Дыхание ее стало неровным и прерывистым, губы задрожали, из ее горла вырвалось рыдание.
– А кого я могла еще винить? – сказала она, и ее слова были для меня больнее, чем пощечина. – Он мертв.
Я хотела встать, но у меня не было сил подняться.
– Ты ведь знала, да?
– Знала. – Она взяла салфетку и высморкалась. Взяла другую и промокнула глаза. На белой бумаге остались черные полукружия от ее туши.
– Ты назвала меня лгуньей и шлюхой. – Я буквально выдавила из себя слова, застрявшие у меня в горле, – они были словно острые камни, оставлявшие после себя царапины.