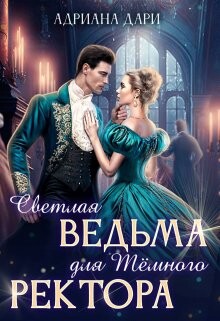Зеленое солнце (СИ) - Светлая Марина
Ляна и Стах приехали вместе и даже вместе пришли на свидание в специально отведенное помещение, где они говорили как в кино, из-за стекла, да еще и под присмотром. Ляна рыдала так сильно, что Назару казалось, что еще немного, и она потеряет сознание или у нее разорвется от горя сердце. И ее было жалко — какая бы ни была, а мать. От этой жалости, прорезавшейся сквозь нежелание чувствовать, его и скрутило впервые за короткое время пребывания за решеткой.
Она билась в истерике, которая, наверное, и не заканчивалась у нее все эти дни, а он ничем не мог ей помочь и ничем не мог ее утешить. И словно попал в свое прошлое, переживая нечто похожее на тот день, когда едва не убил Ивана Анатольевича Бродецкого, только лет ему теперь больше, а растерянность — все та же. Замкнутый круг, из которого нет никакого выхода, потому и будущего — нет.
«Дядь Стах, выведи ее! — выкрикнул Кречет, сжав кулаки и не понимая, почему никто ничего не делает, когда человек так сильно плачет и бьется в стекло. Человеку же плохо. — Выведи, а то я сам уйду».
«Устроили балаган», — проворчал страж закона, и Шамрай-старший, досадуя на все и сразу, и правда вытолкал Ляну из комнаты и передал ее кому-то в руки. Шоферу, должно быть.
А потом, постукивая нервными пальцами по столу, проворчал:
«Она обещала держаться, а сама концерт устроила, прости».
«Ничего. Ей лучше?»
«Да что Лянке сделается? Таблетки она с собой носит, заставил выпить… Ну… ты как тут?» — и Стаховы глаза блеснули неподдельным беспокойством, будто бы он ожидал услышать что-то нелицеприятное и заранее «что ты им тут наговорил уже, не бойся, не наругаю».
В ответ на это Назар со всей свойственной ему немногословностью буркнул:
«Нормально».
Что именно нормально — он и сам не знал, но пусть так.
Стах, же несколько более нервный, чем обычно, и куда как более мрачный, вытрясал из него постепенно все, что происходило в эти дни, ничуть не хуже следователя на допросе, с той лишь разницей, что даже следователя Назар сейчас воспринимал спокойнее, чем Шамрая, и это было совершенно необъяснимо. До него только потом дошло, что Стах так ни разу и не сказал, что будет за него бороться. И ни разу не сказал спасибо. Неужели не за что? Все эти годы службы, изнурительной работы и собачьей верности вылились в брошенное словно походя:
«Адвоката я тебе нашел, парень молодой, но мне рекомендовали на такой случай. Говорят, толковый. Посмотрим, что можно сделать при твоих вводных».
Твоих вводных.
Твоих, а не наших.
Но даже и это Назар выдержал, не моргнув глазом. Просить искать варианты с освобождением под залог он права не имел. Да и вообще просить о чем бы то ни было не собирался, довольно того, что есть, того, что дают, но когда Шамрай уже собирался уходить, Назар дернулся напоследок и выдал на одном выдохе, от самого себя не ожидая такой порывистости:
«Дядя Стах, а Милана не объявлялась? Меня не искала? А то телефон же забрали…»
Черт его знает, зачем ему эта информация, но все же, оказывается, нужна. А еще нужно, чтобы она и правда его искала. Приехала. Была. Он никому ни слова не сказал о том, что видел и узнал про нее, ни одному человеку не признался, что, скорее всего, она его бросила — видимо, как раз за этим. Чтобы позволить себе ждать, что Милана приедет. Или будет его разыскивать. Ведь он столько времени уже без связи, должна была заметить.
Впрочем, что-то заметил, должно быть, Стах, потому как взгляд свой внезапно отвел и будто бы смутился. И когда заговорил, то тоном, который Назару не понравился, будто бы напихал в рот колючей проволоки.
«Нет, Брагинцы не звонили. Вообще давно не созванивались, не до того».
«Значит, она так ничего и не знает».
«Ты хочешь, чтобы узнала?» — приподнял бровь Шамрай.
«Ну а как?»
«Хм… ну да…»
«Скажи ей, ладно? А дальше пусть сама решает».
«Скажу, не волнуйся. И держись тут, разберемся. Прокурор этот новый, мразь, решил давить, но посмотрим еще».
И отсюда Назар вынужден был сделать вывод, что его освобождение — вопрос более чем туманный. А вернувшись в камеру, вдруг осознал главное: если бы на его месте сегодня по любым причинам оказался Митя, Стах сердце бы свое отдал, реки вспять повернул, в рубище по паперти на коленях прополз бы, но Митя ни дня не провел бы в тюрьме. Просто Назар — не Митя и никогда не будет Митей. И потому смирись и терпи, Назар Иванович, человек без роду и племени, без будущего и без желания чувствовать, потому что абсолютно любое чувство — слишком мучительно.
Да, вот тогда его и правда скрутило так сильно, что выть хотелось. Безысходность сжигала последний кислород, и в безвоздушном пространстве схлопывались легкие. А ему было дерьмово, хоть в угол камеры забейся, спрячь лицо в коленях, зажмурься что есть мочи и представь себе, что ты не здесь. Где угодно на свете, но не здесь, где каждую минуту, отсчитываемую часами, он все ближе к бездне, которая его поглотит. Отсутствие воли. Воли в наивысшем значении: воли как свободы и воли как силы за свободу бороться.
Воля — это вперед, а не на месте, в то время как он — только на месте и назад, в прошлое, которое и сам ненавидел. Милана ведь просила, звала с собой, а там и до звезд вполне могло быть близко. До самых звезд, к зеленому солнцу, куда в действительности, в глубине души, даже если не признается никому, стремится все же каждый человек. Они манят. Они, а не норы и углы, куда мы заводим себя сами, цепляясь за свое прошлое и за свое место. Место, которое он, оказывается, все это время продолжал считать своим, хотя в действительности не стоило.
И так, как жил он, жить нельзя. Получается, нельзя, ведь жизнь привела его в эту точку. Он самого себя в нее привел.
«Ты почти ребенок был, а они походу нифига об этом не думали», — услышал Назар рядом с собой голос Миланы и распахнул глаза, тревожно оглянувшись и немедленно вперившись взглядом в одного из соседей, возвышавшегося над его нарами.
«О! Очухался!»
«Шамрай, тут тебе передачу притаранили, вставай!» — гаркнули у двери в камеру. И он поднялся с кровати, с трудом возвращаясь в реальность, которая вторых шансов не дает, сколько ни жди. Если однажды уже влез в болото, оно все равно затянет.
Передачу собирала, очевидно, мама. Одежда, средства гигиены, еда. Позднее через адвоката он просил привезти какие-то книги. Ни Ляны, ни Стаха больше не видел и все его последующие дни слились в чередование лиц. Адвоката, ментовских, соседей-друзей по несчастью. Ни одного родного. Ни одного близкого. Милана не приезжала. Он не осмелился бы признаться в том даже самому себе, но мечтал о ее приезде так сильно, как вообще ни о чем не мечтал. Просто поговорить один раз, расставить все точки. Изменила она ему или нет — значения уже не имело, будто бы отступило прочь. Та Милана, которую он знал, возможно, и могла натворить глупостей в обиде на слова, произнесенные им по телефону, но никогда бы не бросила в беде. Это она предлагала найти отца, это она оправдывала его проступок многолетней давности, это она взяла его однажды за руку и сказала: «Бежим!»
Он с тех пор и бежал, пытался бежать, как мог. Учился бежать, хотя не умел. К звездам, к зеленому солнцу, из своей норы, вцепившейся в него и настигавшей раз за разом, едва он вырывался. Потому что Милана была рядом. Единственная, толкавшая его вперед. И ему казалось, что все остальное перед этим меркнет.
Они бы поговорили, да. И пусть он ни за что не просил бы ее ждать, даже скорее просил бы об обратном, но… он бы знал, что имеет значение. Что для нее он важен — там, где начинается пресловутое «и в горе, и в радости» для нее он важен.
Но дни шли. Миланы не было. Родичи больше не появлялись после того, самого первого своего визита. Что творится с его делом Назар не знал. Адвокат, вроде бы, с энтузиазмом взявшийся его защищать, тоже носа не казал, лишь иногда выныривая из небытия. И словно бы все забывалось. Потом снова пришла мама, теперь уже не истеря, а тихо плача в своем горе. Ему было жаль ее до невыносимости, куда жальче, чем себя, но утешить нечем, он слишком хорошо понимал, что если за него взялись, а Стах не похоже, чтобы всерьез готов был вписаться и явно свои проблемы разгребает, то тут без вариантов, только смириться. К еде добавились несколько книг, которые он проглатывал по одной в сутки, только бы ни о чем не думать. И забывал самого себя, уверенный, что списан со счетов.