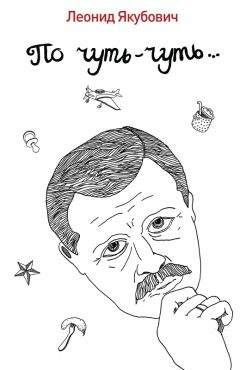Андромеда Романо-Лакс - Испанский смычок
— А может, никогда и не носила, — поддакнула ее подруга.
Чуть позже появился Аль-Серрас с жалобами на соседа по столику, который весь обед оплакивал свои пропавшие миллиарды.
— Они называют его «черным вторником», — ворчал он. — Сначала «черный четверг», теперь «черный вторник». Вся неделя — сплошной мерзкий синяк.
— Что ты думаешь о концерте?
— Еще одном?
— Ну да. Втроем.
Капитан выделил нам небольшой зал, чтобы мы могли прослушать Авиву. Она пришла со скрипкой, но не торопилась вынимать ее из футляра. Аль-Серрас всячески подбадривал ее, так же как подбадривал меня, когда мы впервые играли вместе во дворце в Париже. В такие моменты, отвлекаясь от тревоги за будущее, забывая про свой неуемный аппетит и необходимость самоутверждаться, он бывал великолепен.
Мы дружно уговаривали Авиву, но она не поддавалась.
— Ведь это огромный шанс для вас, — отчаявшись, сказал я ей. — Неужели вы этого не понимаете?
— Я знаю, насколько вы известны, — кивнула она.
— Не спорьте с ним, — вступил Аль-Серрас. — Это бесполезно. Сделайте это для меня.
— Я подумаю, — сказала она.
— Никаких раздумий. Просто скажите, что вы согласны.
Я хотел, чтобы она играла с нами, но не хотел, чтобы он упрашивал ее.
— Не спешите, мисс…
— Да-да, подумайте над нашим предложением, — опять влез Аль-Серрас.
Она кивнула и повернулась уходить. Аль-Серрас подмигнул мне и принялся перелистывать разложенные на крышке рояля ноты.
— Аи revoir, — попрощался он с Авивой. — Встретимся позже, на палубе. Будьте любезны, закройте за собой дверь. — Затем обратился ко мне: — Слушай, Фелю, не взглянешь сюда? — Он извлек из пачки нот листок: — Что-то никак не могу уловить нужный ритм.
За все годы нашего знакомства Аль-Серрас никогда не обращался ко мне за советом. Обычно он играл не по нотам, а по памяти.
— Вот это место… — И его пальцы запорхали по клавишам.
— Что это?
— Форе, до минор, — ответил он, не прекращая играть.
— А где моя партия?
— На рояле.
— Что ж ты раньше молчал?
Вместо ответа Аль-Серрас крикнул через плечо:
— Помолчи! Лучше послушай, как я его усовершенствовал.
Я понял, что он говорит это для Авивы, которая задержалась на пороге.
Он превзошел самого себя. Окунулся в тревожное начало Форе с полной уверенностью в себе. Его пальцы оживляли колокольный звон, подобно носу корабля разрезали волну и посылали тревожные сигналы в темное морское пространство. Взволнованная музыка молила о чем-то недоступном. Пораженный его исполнением, я занял свое место и заиграл свою партию. Виолончель принесла облегчение — более медленная и спокойная мелодия уверенно повела корабль навстречу ветрам.
Мы сыграли две первые части и подошли к третьей. Магия музыки Форе так захватила меня, что я не заметил, как Авива вернулась в комнату и вынула скрипку из футляра. Она присоединилась к нам как раз в тот момент, когда голос скрипки соединяется с голосом виолончели и поднимается ввысь, раскалывая тьму. Она без труда вела меня, добавляла дерзкие штрихи, наполнявшие пьесу жизнью. И вдруг как будто испугалась, что забралась слишком высоко: у нее закружилась голова, и она спустилась с небес на землю. Технически она играла совершенно, ни один критик не придрался бы к ее исполнению, но я чувствовал, что она вернулась к какому-то пределу, который установила себе сама.
Тем не менее, когда мы закончили, она выглядела довольной. Мы с трудом переводили дух — исполнение незнакомой пьесы всегда выматывает физически. Авива засмеялась:
— Надеюсь, в следующий раз вы дадите мне настроиться!
— Вот именно! В следующий раз! — воскликнул Аль-Серрас — Именно эти слова я и хотел услышать. Вы уже играли это прежде, не так ли?
Только тут до меня дошло, что Авива не смотрела в ноты.
— Два года назад, — ответила она.
— Я не знал этого произведения, — признался я. — Когда оно было написано?
— В 1923 году, — загоготал Аль-Серрас. — Фелю, ты отстал от жизни. — А затем, обращаясь к ней: — Он наполовину живет в семнадцатом веке.
Но его добродушное поддразнивание меркло по сравнению с охватившей нас эйфорией. Мы поняли, на что способна Авива. И начали догадываться, что она собой представляет.
Я предложил капитану дать концерт в последний вечер перед приходом в порт. И заранее извинился, понимая, что это довольно рискованно — собрать трио музыкантов в такое короткое время.
— Рискованно? Короткое время? Да о чем вы говорите? На этом корабле я сочетал браком пассажиров, познакомившихся всего несколькими днями раньше! Люди часто торопят события. Кроме того, всем понравился ваш первый концерт. А меня устраивает все, что удержит пассажиров подальше от радиорубки.
К тому же, добавил капитан, для Авивы участие в концерте будет благодеянием.
— В каком смысле?
— Да у нее же ни гроша за душой! Билеты на пароход ей оплатил патрон, а все, что она заработала, ушло на оплату квартиры. Для нее, в отличие от большинства, «черный вторник» наступил давным-давно.
— Я не знал.
— Хорошо, что на борту есть настоящие ценители музыки. Я уверен, что мы сможем ей помочь. Почему бы не попробовать собрать для нее немного денег?
Мы сказали Авиве о предстоящем концерте, и она стала нерешительно отнекиваться.
— Мне нечего надеть, кроме того, что на мне, — уронила она, опустив глаза на то самое строгое платье с фестонами, в котором была в тот вечер, когда играли мы с Аль-Серрасом.
Я хотел сказать, что одежда не имеет значения, но вмешался Аль-Серрас.
— Мы найдем для вас что-нибудь получше, — пообещал он ей.
Именно он выяснил, что у юной племянницы почитательниц Бетховена, путешествовавшей с ними, имелась зеленая накидка. Чтобы превратить ее в платье, достаточно было ушить ее в талии. С подушечкой для булавок в руках дамы собрались в большой каюте Аль-Серраса, выставив нас за дверь.
— Она отлично держалась на репетиции, — сказал я.
— Мне кажется, она волнуется не за выступление. Просто не привыкла, что ей оказывают внимание. Да и наряд будет слишком открытым. Авива, как сказала мне одна из тетушек, выросла в женском монастыре.
— Но это нечестно! Мы-то с тобой будем одеты строго!
— И слава богу, — сказал он. — Кому интересно пялиться на нас с тобой? А уж на тебя-то и вовсе никто не смотрит. Не спорь со мной! Ты играешь, уставившись в пол. Публика видит только твои опущенные плечи. Но на нее они, конечно, будут таращиться. — И добавил: — Ты и сам на нее таращишься. Даже когда она не играет.