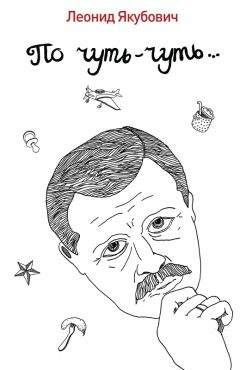Андромеда Романо-Лакс - Испанский смычок
Со дня концерта в Бургосе я совсем потерял из виду Аль-Серраса. Памятуя о том, как мы с ним расстались, и зная о постигшем его фиаско, я не осмеливался первым обратиться к нему. По моему разумению, он должен был проявить инициативу. Не мог же он вечно на меня сердиться.
Я собирался уходить, когда до меня донесся пронзительный крик Риты: «Ага! Я знала, что это случится. Маэстро, скорее смотрите!»
Мне стоило усилий не обращать внимания на толстую пачку писем, которую она протягивала мне, пока я дошнуровывал ботинок. Но она обошла вокруг стола и всунула мне в руку письмо:
— Это из Америки! Приглашение сыграть в Белом доме!
— О! — не удержался я от радостного возгласа. — Недурственно.
— Вы этого заслуживаете! — проникновенно проговорила она.
— Наверное. Ответьте им. Скажите, что я с удовольствием принимаю приглашение.
Я приехал в Вашингтон в конце октября 1939 года, через полгода после инаугурации президента Гувера. Я так нервничал, что на официальном обеде, предшествовавшем концерту, с трудом проглотил всего несколько кусочков, но выступил хорошо — и сам был доволен, и пригласившие меня хозяева. Я ждал, что после концерта будет прием, на котором я смогу поговорить с президентом и спросить его совета о том, как один человек может помочь своей мятущейся стране. Гувер пользовался среди европейцев репутацией героя за помощь безработным, которых он по собственной инициативе поддерживал во время Великой войны, особенно в Бельгии.
Но мне не удалось даже словом перемолвиться с президентом. Собравшиеся были ошеломлены случившимся накануне «черным четвергом», когда на фондовом рынке США резко упали акции. Джентльмены, сунув пальцы за пояс или поправляя галстук-бабочку, мрачно рассуждали о ликвидации, спекуляции, перегретых рынках и прочих далеких от меня вещах. Единственное упоминание о моей стране прозвучало, когда одна из дам из семейства Рокфеллер посетовала на бегство тысяч европейских инвесторов, покинувших Уолл-стрит и устремившихся вкладывать деньги в восстанавливающиеся рынки своих стран.
Такая же атмосфера царила и на борту парохода, на котором я на следующий после концерта день возвращался в Испанию, где меня ждал новый контракт на запись. За трапезой пассажиры первого класса упорно обсуждали финансовые новости, со страхом ожидая открытия биржи в понедельник. К вечеру субботы корабль охватила паника. На обеде два джентльмена затеяли столь горячий спор, что сидевшая с ними за одним столом седовласая женщина с двойной ниткой жемчуга на широкой груди не выдержала: «Неужели нам больше не о чем поговорить? Вы хотите окончательно лишить меня аппетита?»
Один из мужчин потянулся, чтобы взять ее за руку, но она его оттолкнула. За соседним столом ссорилась супружеская пара: они громко выясняли, кому первому пришла в голову несвоевременная идея отправиться в Европу. В их беседу вмешался пассажир, заявивший, что пароход должен повернуть обратно. Со всех сторон неслись недовольные восклицания и взаимные упреки. Обстановка накалялась. К счастью, до драки не дошло, но я не удивился бы, если бы она вспыхнула. Мой сосед по столу попросил вызвать корабельного доктора и пожаловался на боли в груди.
Вечером ко мне подошел капитан:
— Я был на вашем концерте в Белом доме. Может быть, вы согласитесь выступить у нас на корабле?
Я не успел ответить, как к капитану обратился младший офицер. Пассажиры настойчиво требуют позволить им воспользоваться корабельным радио. Они говорят, что им необходимо срочно связаться со своими брокерами.
— Может быть, завтра вечером? — проводив подчиненного, продолжил капитан. — Это хоть как-то отвлечет пассажиров. Из-за всех этих озабоченных уолл-стритовских баронов мне трудно сохранять контроль на борту. Впрочем, и без всякого кризиса было бы глупо не воспользоваться тем, что среди нас находится такой выдающийся музыкант. Обычно среди пассажиров бывает несколько артистов и писателей, но чтобы сразу два знаменитых музыканта — такого я не упомню..
— Два? — переспросил я.
— Прошу прощения. Я не хотел вас обидеть. Но мне сказали, что тот, второй, тоже довольно известен. Или был известен в прошлом. Он вас сразу узнал.
— Он пианист? И его зовут Хусто Аль-Серрас?
— Да, это он.
— Но почему я ни разу с ним не столкнулся?
— Он путешествует вторым классом, — понизив голос, произнес капитан. — Я обещал ему каюту получше, если и он согласится принять участие в концерте. Но он сказал, что я должен спросить вас.
В этот момент к капитану подошел другой младший офицер. Я отвернулся в сторону, чтобы не выдать своего волнения. Спросить меня? Я был удивлен не столько тем, что Аль-Серрас хотел поговорить со мной, сколько тем, что он хотел участвовать со мной в одном концерте.
— В Императорском холле у нас отличный рояль, — вернулся ко мне капитан. — В последнем рейсе у нас исполняли джаз… Думаю, вам понравится акустика. Хотите посмотреть?
Я его уже не слушал. Думал, что скажу при встрече с Аль-Серрасом. Но вот мы вошли в Императорский холл, и я увидел его сидящим над клавиатурой рояля.
Аль-Серрас повернулся на стуле и схватил меня за руку. Я успел рассмотреть его: нижняя часть красного лица отяжелела, в волосах, по-прежнему густых, появилась седина. Он растянул губы в улыбке, и я почувствовал, как меня отпускает напряжение. Неужели примирение состоится так легко?
— Какими судьбами? — выдавил я из себя.
— Я прочитал о твоем концерте в Белом доме, — признался он. — И узнал, что ты возвращаешься в Европу на этом корабле.
Я не стал спрашивать, почему он не написал или не позвонил мне. Он тоже не задавал этих вопросов. Просто рассказал мне о нескольких концертах, которые он дал в Филадельфии и Бостоне, а до того — в Южной Африке:
— Я рассчитывал пробыть в Нью-Йорке еще месяц, но мои финансовые, дела, скажем так, пошатнулись. Так что пришлось собираться домой…
— Уж не пострадал ли ты из-за кризиса на бирже?
— А кто не пострадал? Мой брокер всю пятницу даже не подходил к телефону. Зато с билетом на пароход не возникло никаких проблем. Многие в последнюю минуту сдали билеты.
Над ним все еще витала тень потерь, но, как ни странно, он отнесся к ним философски.
— Что в этой жизни прочно? — задал он риторический вопрос и рассмеялся: — Красивая внешность, да и та ненадолго. Деньги — никогда.
— А дружба? — спросил я осторожно.
Он провел пальцами по усам:
— Иногда. Я отношу дружбу к той же категории, что и любовь: порочная, грязная, непостоянная, и почему-то непреодолимо влекущая.