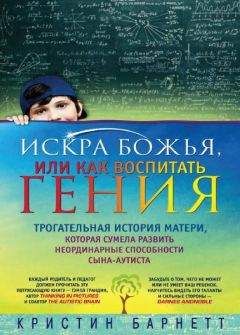Кристин Хармель - Забвение пахнет корицей
– Что случилось с вашими родными? – спрашивает Гэвин у Жакоба. И снова пожимает мне руку, тревожно заглядывая в глаза.
Жакоб тяжко вздыхает.
– Мама и сестра не прошли первичного отбора в Освенциме. Мама была болезненной и хрупкой, а сестренка казалась моложе своих двенадцати лет, так что обеих признали негодными для работы. Их отправили прямиком в газовую камеру. Я уповаю на то, что они так до конца и не поняли, что происходит. Но боюсь, мама все-таки знала достаточно, чтобы догадаться. Могу себе представить, как же страшно ей там было.
Он делает паузу, старается взять себя в руки. Я не могу выдавить ни единого слова, поэтому молча жду продолжения.
– А нас с отцом отправили в бараки, – снова заговаривает Жакоб. – Сначала мы старались подбадривать друг друга, насколько могли. Но вскоре он тяжело заболел. В Освенциме тогда случилась эпидемия. Тиф. Сначала у отца ночью сильно поднялась температура, потом слабость и ужасный кашель. Надсмотрщики все равно выгоняли его на работу. И я, и другие заключенные старались по возможности брать его задания на себя, чтобы ему было легче, но все равно болезнь оказалась смертным приговором. Я сидел с ним в ту последнюю ночь, помню, как его тело сотрясал озноб. Он умер осенью 1942 года. Не могу сказать наверняка, какой это был день, неделя, даже какой месяц. В Освенциме времени в привычном смысле не существовало. Умер он до того, как пошел снег, вот и все, что я могу сказать.
– Мне очень жаль, – выговариваю я с трудом, досадуя на себя, потому что слова звучат ужасающе холодно и абсолютно не передают моих чувств.
Жакоб склоняет голову и некоторое время рассматривает пейзаж за окном, прежде чем снова повернуться к нам.
– Перед смертью он затих и успокоился, на него сошел мир. В лагере умирающие часто выглядели почти как спящие дети – невинные и безмятежные. Так же было и с моим отцом. Я радовался, глядя на его спокойное лицо, потому что понял – он наконец свободен. В иудаизме идея небесного царства не так четко проработана, как в христианстве.
Но я верил тогда и верю сейчас, что, как бы то ни было, отец нашел там маму и сестренку.
На его губах появляется улыбка, горькая, печальная улыбка.
– Над воротами Освенцима была надпись по-немецки: «Труд освобождает». Но правда заключается в том, что освободить нас способна одна лишь смерть. Так что мои близкие, по крайней мере, свободны.
– Как вам удалось выжить? – заговаривает Гэвин. – Сколько вы пробыли в Освенциме, года два?
Жакоб кивает.
– Почти два с половиной. А все дело в том, что у меня не было выбора. Я ведь обещал Розе, что вернусь. И я не мог, не имел права нарушить это обещание. После освобождения я возвратился в Париж, пытался ее разыскать. Я был совершенно уверен, что найду ее и мы снова будем вместе – вместе станем воспитывать ребенка, а может, у нас родятся еще дети. И тогда мы как-то сумеем преодолеть память о войне.
Мы с Гэвином жадно вслушиваемся в слова Жакоба, а он рассказывает, как вернулся, как метался по Парижу в поисках Розы, уверенный в глубине души, что она жива. Он описывает свое отчаяние, когда нигде ее не нашел, встречу и разговоры с Аленом, единственным из всей семьи Пикаров, кому удалось выжить. Потом он обратился за помощью в международную организацию по делам беженцев.
– Они мне помогли эмигрировать, и в конце концов я оказался в Америке. Именно там мы с Розой обещали друг другу жить, когда все кончится. Я со своей стороны попытался выполнить обещание, понимаете? И вот каждый день последние пятьдесят девять лет я ждал ее на берегу, в Бэттери-парке, где мы договорились встретиться. Я всегда верил, что она придет.
– Вы были там каждый день? – переспрашиваю я. Жакоб улыбается.
– Почти каждый. Я работал, разумеется, но приходил до и после работы. Я пропустил только несколько дней, когда сломал шейку бедра, и еще несколько после 11 сентября, когда в парк не пропускали. Я, собственно говоря, был в парке, когда первый самолет протаранил здание Всемирного торгового центра.
Помолчав несколько секунд, Жакоб тихо добавляет.
– Тогда я второй раз в жизни видел, как мир рушится прямо на глазах.
Мне требуется время, чтобы осознать сказанное.
– Почему вы были так уверены, что бабушка обязательно придет? Вы не допускали, что ее, может быть, уже нет в живых?
Он обдумывает вопрос.
– Нет. Я бы это почувствовал. Я бы узнал.
– Как? – едва слышно спрашиваю я. Не верится, что можно пронести надежду через семьдесят лет.
Жакоб отвечает не сразу, он смотрит на меня, печально улыбаясь.
– Я бы ощутил это сердцем, Хоуп, – говорит он. – Понимаете? В жизни такое не слишком часто случается. Но когда два человека соединяются друг с другом так накрепко, как мы с вашей бабушкой, – они связаны навсегда. Если бы она умерла, я бы почувствовал, что потерял часть своей души. Когда Господь соединял нас, Он из двух половинок сделал одно целое.
Гэвин вдруг крепко стискивает мне руку и смотрит мне в лицо, широко раскрыв глаза.
– Что? – недоумеваю я.
Не отвечая, он смотрит в зеркало.
– Жакоб, – окликает он. – Что вы имели в виду? Когда сказали, что Господь соединил вас?
В тот же миг, прежде чем Жакоб успевает ответить, я понимаю, о чем говорит Гэвин и что сейчас скажет Жакоб.
– В тот день, когда мы с Розой поженились, – говорит он. – Мы стали единым целым перед Богом.
– Вы с моей бабушкой были женаты? – лепечу я. Жакоб смотрит на меня с недоумением.
– Разумеется. Мы поженились тайно, конечно. Ее родные ничего не знали, как и мои. Им казалось, что мы слишком молоды для женитьбы. Мы не могли дождаться дня, когда сможем обо всем им рассказать и сыграть настоящую свадьбу, с теми людьми, которых любили больше всего на свете. Но нам так и не довелось этого сделать.
Я мучительно пытаюсь понять, и вдруг меня осеняет: если бабушка была замужем за Жакобом, ее брак с моим дедом был ненастоящим. И снова сердце мне сжимает боль и обида за дедушку, который этого не знал.
Или знал? Понимал ли он в 1949 году, когда ездил в Париж, что его собственное счастье рухнет, если Жакоб Леви жив, – ведь само существование Жакоба автоматически аннулирует его брак с бабушкой? Не потому ли он сказал тогда бабушке, что Жакоб убит? От этой мысли мне делается не по себе. Я понимаю, что правды мне не узнать никогда.
– Вы женились на бабушке из-за того, что она была беременна?
– Нет, – возмущенно мотает головой Жакоб. – Мы женились потому, что любили друг друга. И боялись, как бы война не разлучила нас. Мы знали, что предназначены друг для друга. Ребенок, как мне кажется, был зачат в нашу первую брачную ночь, когда мы впервые были вместе, в этом смысле.