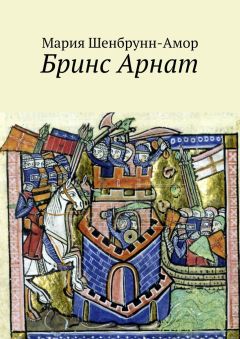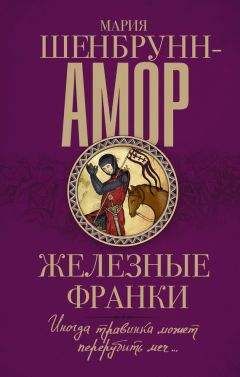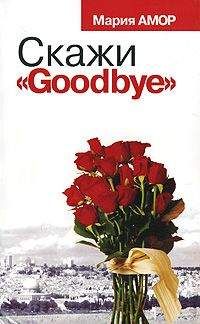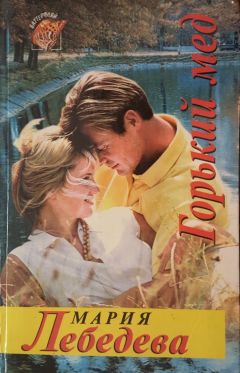Мария Шенбрунн-Амор - Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад
Первым захворал Паскаль Лаборд. Рено не отходил от трясущегося в лихорадке храмовника, по капле вливал в него воду, днем и ночью держал за руку, протирал пылающий лоб влажной тряпкой и молился, молился, молился. Волосы больного слиплись от пота, грудь судорожно вздымалась, горячечное дыхание вырывалось со свистом, и Рено невольно дышал с ним вместе, словно пытался помочь Паскалю сделать каждый следующий вздох. За проведенные вместе годы незаметно для самого себя привязался к тихому, застенчивому рыцарю Христа. Если бы Шатильона спросили – любит ли он кого-нибудь, он бы только засмеялся, никто ему никогда не был нужен. А сейчас оказалось, что легче было бы глаз потерять, чем молчаливого соседа, который выращивал под окном какие-то былинки, бесконечно размышлял над каждым ходом в шахматах да слушал сверчков. Даже Жослен был себе на уме, а Лаборд – вот он, весь как на ладони, чистый, как хрусталь. Шатильон сказал бы это другу, попрощался бы, но Сен-Жиль постоянно наблюдал за ними холодным, пронзительным взором. Да и что толку в чувствительных словах и трогательных жестах? Тут помочь надо, дотянуть умирающего до прихода епископа, чтобы брат ордена Христа ушел в лучший мир, исповедовавшись, соборовавшись, пусть хоть с помощью яковита. Тамплиеру было важно умереть со священником, он ведь даже в заключении пытался соблюдать посты и святые дни. Но Сен-Жиль считал иначе. Граф Триполийский вбил себе в голову, что хаджиб позаботится о больном тамплиере – лекаря позовет или хотя бы теплые одеяла даст. А может, просто боялся заразиться. Так или иначе, он настаивал, что следует сообщить тюремщикам о состоянии Паскаля. Шатильон возражал. Не станут обрезанные собаки лечить храмовника, все одно помрет, так пусть по крайней мере до конца останется среди друзей. Но граф словно искал случая поступить наперекор Рейнальду: дождался появления Али и выдал недужного. Храмовника вытащили из ямы, хоть для этого трем жирным тюремщикам-тюркам пришлось держать бешено сопротивлявшегося Шатильона.
Паскаль не вернулся. Через три дня их выгнали во двор. Сен-Жиль охнул, закрыл лицо руками, Шатильон поднял взгляд, горячая волна рванула в груди и заложила уши.
Все же вырвался из темницы кроткий, святой человек и ныне бредет по снегу в Оверне, собирает с заснеженной земли упавшие красные яблоки, и нет среди них червивого, все цельные и душистые, как душа тамплиера. И сам он Господом подобран, лучшее яблоко в райском саду, праведный и совершенный Паскаль Лаборд. Стал он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет. А на припорошенной снегом крепостной стене чернела его сморщенная и надклеванная грифами голова.
В горло хлынул сладковато-железный привкус крови, глаза застила алая злоба, Рено захрипел, затрясся и тигром набросился на Сен-Жиля, пытаясь задушить или хотя бы вырвать глаза тому, кто обрек умирающего на казнь.
Тюремщики разняли их, увели ошеломленного графа Триполийского внутрь каземата. В застенок к Шатильону и Куртене он, на свое счастье, больше не вернулся, а вернулся бы – Рено бы позаботился, чтобы уславший Паскаля в рай до срока, сам поспешил бы в ад. Бессмысленная и мучительная гибель чистого душой человека, непонятно зачем обреченная Господом протомиться десять лет в застенках, не давала покоя.
– Как зачем? – недоуменно мигал Игнатий. – Магометане наверняка предложили Паскалю перейти в ислам, а когда он отказался, казнили несчастного. Так они поступают со всеми братьями рыцарских орденов. Вы хотели, чтобы он дожил до моего прихода, чтобы я исповедовал эту невинную душу и отпустил ей грехи, а Господь в своей милости позволил ему постоять за веру, подарил брату-храмовнику мученичество. Жизнь и смерть брата Паскаля не были бессмысленны, ибо ему пришлось выбирать между добром и злом, и он сделал верный выбор. А в этом и есть предназначение каждого из нас – совершить правильный выбор между Господом и дьяволом.
– Паскаль и так всегда был на правильной стороне.
– Может, его пример был предназначен для кого-то другого, – голос добряка Игнатия неожиданно посуровел, – может, ему было предопределено вразумить упорствующего, которому требуется немереное страдание, чтобы понять свой путь.
– Думать так – беспредельная гордыня, монсеньор! Уж я-то Господу давно ни на что не гожусь, ради меня губить Паскаля – это как прекрасного дестриэ загубить, чтобы паршивого мула спасти.
Шатильон злобно пнул камешек, но, видно, не всякое страдание помогало, от боли в пальцах ничуть не полегчало. Он уже давно все понял и про себя, и про собственный путь. Разумеется, он тоже на стороне добра, то бишь, на стороне христиан против поганых обрезанных. Только таким человеком, как Паскаль, ему никогда не стать. Но так же, как меч нужен кресту, как хлеб растет из унавоженной земли, так же и грешный Бринс Арнат, такой, какой он есть, со всеми его бесчисленными пороками и недостатками, стань он свободным, оказался бы полезнее невинному Агнцу, Земле Искупления и правому делу, нежели многие святоши, а уж полезней графа Триполийского и подавно.
Обезображенная голова храмовника еще долго разлагалась на сарацинской пике, его обезглавленное туловище гнило в какой-нибудь безвестной общей могиле, но Рено не сомневался, что совершенную, чистую душу мученика белокрылые серафимы унесли прямиком к Небесному Престолу.
А Раймунда Триполийского тем же летом выкупил Амальрик. Пятьдесят тысяч динаров собрали король и тамплиеры, еще тридцать тысяч сам граф обязался выплатить после освобождения и в обеспечение долга передал Нуреддину вместо себя заложниками своих вассалов. Жослен воспринял новость молча, только пальцами хрустел, а Шатильон захлебнулся злобным отчаянием:
– Будь они прокляты! Сен-Жиль для них свой, он Амальрику кузен. Его и вызволили, и встретили с чествованиями, и дарами забросали, и владения вернули в целости и сохранности! А нас все забыли и предали, словно прокаженных!
Падчерица Шатильона Мария Антиохийская родила ромейскому императору долгожданного сына; дочь Агнесса вышла замуж за наследника венгерского королевства Белу и вскоре вместе с супругом воцарилась в Венгрии, но Рено был по-прежнему покинут могущественными родичами.
Он перестал упражнять тело, прекратил умываться, бросил бессмысленное изучение арабского, не отвечал больше Али и остальным тюремщикам, наружу выходил исключительно по принуждению, Игнатия не ждал, принесенным епископом новостям не внимал, даже молиться отказывался. Лежал, уткнувшись взглядом в стену. За что ему все эти годы муки? Почему он покинут людьми и Создателем? Разве не вышел он в крестовый поход во имя Его и в обмен на полное прощение всех грехов? Разве не сражался беспощадно со всеми Его врагами, будь они даже греки-схизматики?