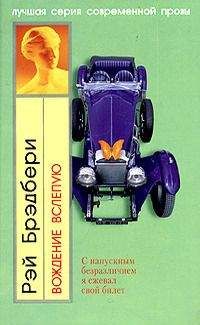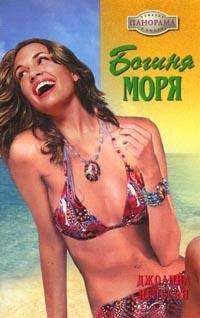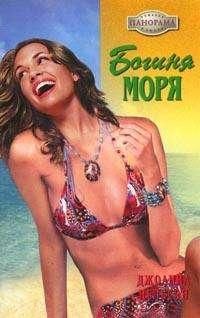Линда Грант - Все еще здесь
Он сидит со мной рядом, слушает мой рассказ о том, что мы сделали с Дрезденом, и спрашивает, где трупы — неужели остались здесь, под покровом травы, под фундаментами новых домов. И я говорю: «Наверное, так». Он кивает и смотрит на асфальт так, словно надеется прочитать на нем имена.
— Вот здесь, наАльтмаркте, — говорю я, — люди из Красного Креста вилами собирали части тел, руки, ноги, головы, торсы, сложили все в кучу, плеснули сверху бензином и подожгли. А пепел, наверное, зарыли в землю. Были здесь и другие ужасы, но от деталей я тебя, пожалуй, избавлю.
— Спасибо.
— Ты, должно быть, и сам всякого нагляделся, если служил в армии.
— Да.
— На войне?
— Да.
— Что ж, моей матери повезло. Очень повезло. Пусть ей и пришлось драить полы в Стэмфорд-Хилле.
— Что?
— Ничего.
Улица Марианны Кеппен неподалеку от Нюрнбергер-плац, вблизи Технического университета. Такси сворачивает на нее, и я вижу, что не весь старый город рассыпался в прах: по сторонам улицы высятся огромные мощные дома середины XIX века — стиль, с которым я не слишком знакома, удивительные здания, словно вышедшие из детской книжки с картинками. В таких домах живут чудовища Мориса Сендака и ведьмы жарят в печи маленьких детей. Я бы в таком доме жить не смогла — а впрочем, мне-то что за дело? По счастью, ряд призраков то и дело прерывается постройками из стекла и бетона, во всей их самоуверенной современности; на таких отдыхает глаз. В саду у Марианны Кеппен цветут герани, анютины глазки и еще какие-то цветы. У ворот — череда звонков, и над одним из них приклеена картонка с напечатанной фамилией «Кеппен»: как видно, в доме восемь квартир. Входная дверь открыта. Стоит ясное, солнечное сентябрьское утро, разгар бабьего лета: воздух напоен всевозможными ароматами, улица тиха и пустынна, и даже с бульвара в квартале отсюда не доносится рев машин. Мы входим, поднимаемся по широкой деревянной лестнице на третий этаж и снова видим фамилию «Кеппен», начертанную над дверью черными пауками готических литер. Дверь приоткрыта. Заглянув внутрь, я вижу прихожую, а за ней — просторную комнату; в глубоком кресле, обложенная подушками, сидит женщина с закрытыми глазами и дремлет. Рядом с ней, на столике, покрытом белой салфеткой в цветочек с желтыми чайными пятнами, разложена всякая медицинская снедь: больничная стальная тарелка в форме человеческой почки, бинты, пластыри, коричневые пузырьки с таблетками. Сколько ей лет, этой женщине? Сто? Сто пятьдесят? Да разве бывают на свете такие старые люди? Руки — словно птичьи лапы, кремовая блузка размеров на пять больше нужного спала бы с иссохшего тела, если бы у шеи не придерживала ее, клонясь к полу от собственной тяжести, большая старинная брошь. Однако, как ни странно, эта высохшая старуха производит впечатление высокой и статной; если бы она встала, должно быть, оказалась бы на голову выше меня. Стук в дверь разбудил ее; она открывает глаза — голубые, над глазами я вижу аккуратные тонкие ниточки бровей, а над бровями — откровенный парик в стиле пятидесятых, сплошные волны каштановых локонов. — Holla!
— Frau Koeppen ?
— Jo.
— Ich bin Alix Rebick.
— Так это ты, — говорит она по-английски. — Долго же мне пришлось тебя ждать!
Впрочем, после первых осторожных приветствий я узнаю, что это едва ли не единственная английская фраза, которую она знает, услышанная вскоре после капитуляции от какого-то британского Томми, встретившегося на улице с товарищем, услышанная, запомненная и многократно повторенная в памяти.
— Наконец-то мы встретились, — говорит она по-немецки.
Должно быть, думает, что Джозеф — мой муж, или брат, или, в крайнем случае, адвокат; слова «просто друг» встречает с таким подозрением, что я уступаю: да, адвокат, я буду переводить все, что он говорит. Джозеф послушно достает блокнот и готовится делать заметки. Мы выдвигаем себе кресла с высокими неудобными спинками, и она посылает меня на кухню с клеенчатым столом приготовить растворимого кофе, а сама достает из-под одеяла, покрывающего ее ноги, пачку сигарет под названием «West» и дрожащими руками пытается зажечь одну, пока наконец Джозеф не склоняется к ней, не берет осторожно из ее старческих рук коробок спичек и не делает все сам. На стенах вокруг нас — пейзажи маслом в золотых рамах, с холмами и коровами, пасущимися у ручьев, настоящий бронзовый щит, пара настоящих скрещенных мечей, горка с мейсенским фарфором; и только разлапистая советская люстра на потолке напоминает, что мы не в довоенном немецком доме, из тех, куда ходила на детские праздники мать — или ходила бы, если бы туда приглашали евреев.
— Вот теперь можно и поговорить, — провозглашает она, отпив кофе. — Прежде всего (тут она достает из-под подушки исписанный листок бумаги и сверяется с ним), объясни, пожалуйста, почему ты не отвечала на мои письма.
— На ваши письма? А вы почему не отвечали на наши?
— Вот твои письма, — она указывает на пачку перетянутых резинкой листков на столе, — а рядом — копии моих ответов. Поскольку ты писала по-немецки, я отвечала так же. Письма отправляла моя внучка.
— А вы точно знаете, что она их отправляла? — спрашиваю я, наклонившись к ней.
— Боже мой! — На несколько секунд она задумывается. — Так вот чем все можно объяснить. Аннемари с самого начала не одобряла моей затеи. Видите ли, у нее в Лейпциге приятель-скинхед. Мать ее в ярости, но ничего не может поделать. Аннемари стесняется своей еврейской бабушки и ждет моей смерти, чтобы забыть обо мне и спокойно жить дальше. Как все молодые, она совершенно не интересуется прошлым. И, на мой взгляд, слишком много времени проводит за компьютером. Вы знаете, что такое чат?
— Спрашивает, знаю ли я, что такое чат, — перевожу я Джозефу.
— Вот как? Надо бы ее с моим папашей познакомить. С тех пор, как он открыл для себя философские форумы, ночи напролет из Интернета не вылезает — болтает с приятелями о добре и зле.
— Моя тема. — И, повернувшись к ней: — Что такое чат, я знаю, но, фрау Кеппен, я ведь до сих пор не имею понятия, кто вы такая.
— Да, в самом деле. Раз писем ты не получала, то, конечно, ничего не знаешь. Ты дочь Лотты или Эрнста?
— Лотты.
— Ну, не важно. Так вот, я — твоя тетка.
— Поверить не могу! — говорю я Джозефу. — Вот только новых родственничков мне не хватало!
— Что? — переспрашивает тетя. — Что ты говоришь своему адвокату?
— Просто объясняю, чему я так удивлена.
— Да, понимаю. Конечно, для тебя это сюрприз. — На сигарете ее растет колечко пепла, и я пододвигаю к ней пепельницу. — Разумеется, тебе неоткуда было узнать. Разве только дед твой признался бы на смертном одре… он ведь уже умер?