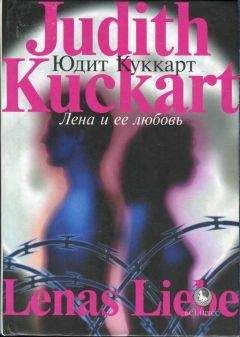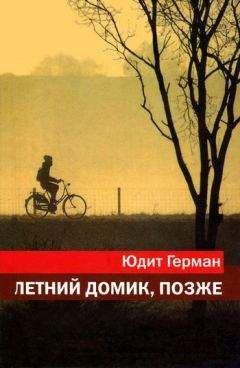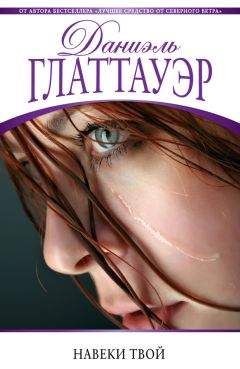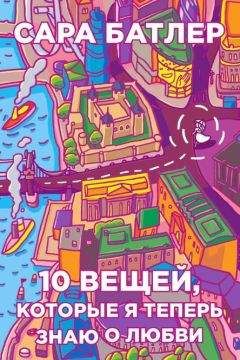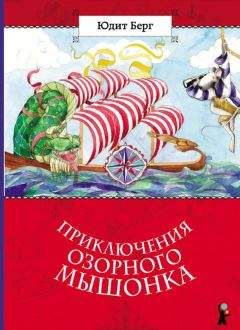Михаэль Крюгер - Виолончелистка
Я захлопнул свой блокнот, да так, что из него бросились наутек перепуганные ноты. Мир возник из приступа икоты, от него же и околеет. Точно так же, как в один прекрасный день Богу наскучила игра с неживой материей, с раскаленными до красноты сферами, обращавшимися вокруг его головы по более или менее предсказуемым и упорядоченным орбитам, ему однажды наскучит и череда все новых и новых маскарадов, без устали изобретаемых людьми. Что же касается самоновейшей музыки, то Бог в ней ничего не смыслит. Он зациклился на Бахе. Если ему доведется услышать нашу музыку, то он тут же вставит себе в уши исполинские затычки из облаков. Музыка Кейджа представляется ему верхом нарциссизма, какофонией эгоцентрика. А ведь именно он, Бог, а не кто-нибудь, заварил всю эту кашу! Он всегда жаждал перемен. Он открыл нам путь к непрерывному совершенствованию наших слушательских предпочтений. Ведь и после Баха должно быть нечто новое, и после Моцарта, и после Шумана, Шёнберга, после Штокхаузена, Буле, возопил он, обращаясь к нам. И нам ничего не оставалось, как снова раскрыть футляры и извлечь из них скрипки, снова настраивать их, снова водить смычками по струнам, потом ударять ими, как молотком, а после разбивать их в щепы — глядишь, и впрямь из хаоса шумов вычленилось нечто, еще одно крохотное подобие гармонии, микроскопическая секвенция, стенающее арпеджио, доселе никем не слышанное. Пожалуйста, сказали мы, вот здесь кое-что новое для вас, однако новое его не тронуло, его по-прежнему интересовал лишь хорошо темперированный клавир. И вот так, опрощая и обедняя свои арсеналы, он заставляет нас отыскивать новое, хотя отлично знает, чем все кончится. А кончится это скандалом, в котором будут участвовать все инструменты, это будет доселе неслыханный, доведенный до предела, вобравший в себя все на свете звуки хлопок. А потом на какое-то время воцарится покой. Конец концерта, никаких оваций. Наверное, на самом деле настала пора укладываться, захлопнуть крышку чемодана и больше не ждать. Перестать уповать на то, что эта что ни день меняющаяся мода надумает предпочесть приемлемый образ жизни. Я мог бы навечно осесть во Франции, и никто не заметил бы моего отсутствия.
В шестидесятые годы нам для описания общества и искусства вдруг потребовался новый язык. Нам никак было не обойтись без него, поскольку рождалась новизна, перед которой прежний язык оказался бессилен, она взрывала его допотопные рамки. Никто из нас не собирался дистанцироваться от прежнего языка и его носителей или кого-то там низвергать или уничтожать. Просто мы усмотрели нечто такое, чего кроме нас никто не замечал, и отчаянно пытались описать это нечто. Позже подоспел марксизм — тоже успевшая набить оскомину пластинка, — и стремительно продвигавшееся вперед новое уже никак нельзя было уразуметь. Марксизм в шестидесятых стал последней попыткой XIX столетия удержать в узде вторую половину XX.
Мне вспоминаются комичные попытки объяснить с марксистской точки зрения обнаженную виолончелистку, сидящую на сцене под прозрачной целлофановой пленкой и извлекавшую звуки из своего инструмента. Маркс, доведись ему увидеть подобное, вероятно, оглох и ослеп бы от ужаса, но мы бесстрашно расставались с барахлом вчерашнего дня. Сегодня новое уже не требует создания для себя новояза. Вероятно, в этом и заключается причина того, отчего умерщвление современности сопровождается столь огромными затратами риторики. Убивают злобно, вероломно и с усмешкой на устах. Поскольку впереди бездна, остается лишь шагать вспять. Цинизм, неуклюжие остроты, игра слов и слегка подновленные метафоры и образы никак не годятся для обрисовки уже миновавшего.
Проходящий мимо ребенок обеспокоенно взглянул на погруженного в чтение газеты человека, который, казалось, вмерз в обзоры культуры.
— Мотай отсюда, катись к чертям собачьим! — прошипел я сквозь зубы.
Ребенок играл в мячик, без конца швыряя его о каменное ограждение фонтана и вслух оценивая отскоки мяча: прыгай как следует, противный мяч, и мне показалось, что этот противный мяч изо всех сил старается угодить своему владельцу. Какое-то время спустя он подкатился ко мне под ноги, и я наконец получил долгожданную возможность зафутболить его далеко в театральный сад. Ребенок неторопливо подошел ко мне и широко раскрытыми глазами посмотрел на меня.
— Ладно, — как можно дружелюбнее сказал я, — давай сходим за твоим мячом.
Газеты так и остались на попечении ветра.
4
Юдит была ниспослана мне, это сомнений не вызывало. Но в чем состояла ее задача? Уже пару дней спустя выяснилось, что Юдит привело сюда не только стремление к совершенствованию навыков игры на виолончели. Вероятно, трудно было бы научиться у здешнего профессора тому, что достигается самостоятельной работой, упорной и каждодневной. Ее пребывание в моем доме сосредоточилось, если говорить без обиняков, позабыв о любой форме такта, на восстановлении давних отношений. Сначала, к моему великому изумлению, а вскоре и к ужасу, я заключил, что она во всем повторяет свою мать. Это особое сочетание спеси и тщеславия с примесью низости и злости было взято от матери. Изображалась и склонность Марии к эзотерике. Скопированы были и оттенки этой склонности, промежуточный их спектр, внезапные порывы нежности.
Юдит представляла собой имитатора, проигрывавшего передо мной времена, проведенные с Марией. Но к чему это все? Ведь в ее игре отчетливо просматривалась ложь, искусством которой Мария владела в совершенстве. И чем точнее и вдохновеннее копировала Юдит мать, тем отчетливее была заметна ложь. Юдит выступала в роли исполнительницы, в задачу которой входило разыгрывать правду, ибо правда истинная представлялась настолько банальной и унизительной, что никому не хотелось иметь с ней дело. А от меня, как и в молодые годы, требовали рукоплесканий. Я, как мужчина, должен был рукоплескать годам своей молодости, разыгранной передо мной Юдит в роли Марии.
Так в этом состояла ее задача?
5
На протяжении вот уже нескольких лет в июле месяце я выезжал в Мадрид преподавать в летней музыкальной школе. Проживал я в мрачной и великолепной коробке, расположенной где-то в центре города — два часа занятий в день в группе численностью в полдюжины учеников, королевский гонорар, бесплатный пропуск во все музеи и иные культурные учреждения. Однако главным было не это, а возможность на целые две недели ускользнуть из-под контроля, шляться по кабачкам, где пели и играли цыгане. Ни в одном из городов мне не удавалось забыться так, как в Мадриде. Когда в и без того сумрачных подвальчиках гасили электрический свет и цыганский ансамбль принимался распевать при свете нескольких свечей, я физически ощущал, как из меня улетучивается крохотный гран субстанции, и из обреченного на тихое увядание человека я превращался в страстного слушателя, стремящегося не упустить ни одного нюанса этой музыки.