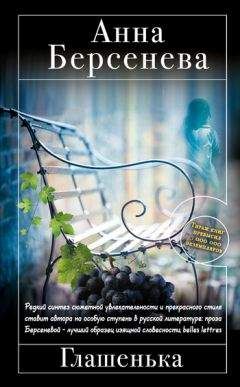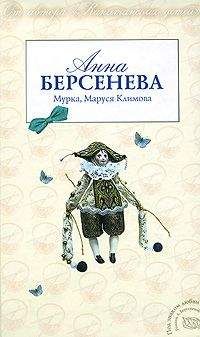Анна Берсенева - Неравный брак
Наверное, из-за этого страха Ева чувствовала себя скованной, зажатой в эту последнюю ночь. Впервые она была с ним такой, и Артем не мог этого не ощутить. Ева видела, что и он сдерживает себя, что он осторожен и робок с нею, что не дает волю страсти, словно не верит в свое право быть с ней таким, каким ему хочется быть.
Иногда, забывшись, он начинал целовать ее с прежней горячностью, задыхаясь, обжигал поцелуями ее грудь – и вдруг вздрагивал и быстро отстранялся. Или, в последние секунды, начинал сдерживать себя, словно стесняясь того, как по-юношески быстро достигает самого сильного и острого наслаждения. И в самом наслаждении он тоже сдерживал себя этой ночью, хотя прежде не стеснялся ни стонов своих, ни сотрясающих все тело, заставляющих мускулы каменеть и скручиваться, последних судорог.
И Ева не чувствовала в эту ночь того, что чувствовала с ним всегда: мгновенного, стремительно разгорающегося в ее теле пожара. Ей не надо было ни долгих выверенных ласк, ни холодного мужского умения, чтобы этот пожар охватил ее всю, до последней частички, а нужна была только любовь, от которой Артем каждый раз сам сгорал, как впервые.
Но сегодня он словно боялся, не отпускал себя. А обыкновенного, позволяющего экономить силы опыта ему просто недоставало. И каждое прикосновение друг к другу становилось для обоих мучением.
Когда Артем наконец уснул, квадратик неба в окне уже посветлел. Ева перестала делать вид, что спит. Она приподнялась, опершись локтем о подушку, жадно всматриваясь в его лицо, – может быть, в последний раз.
Брови у него во сне вдруг начинали хмуриться, губы вздрагивали, как у ребенка, и ей казалось, что слезы вот-вот покажутся из-под его смеженных век. Но все это – и непроходящее печальное напряжение всех черт, и вздрагивающие губы, и тревожный сон – почему-то вызывало не материнскую жалость к нему, а совсем другое чувство…
Ева призывала на помощь всю свою способность осмысливать собственные ощущения, изо всех сил старалась быть честной перед собою – и все-таки не находила у себя в душе того, чего так боялась: материнской жалости к нему, ласкового превосходства, желания защитить. Наоборот, она ощущала собственную беззащитность, и мысль о завтрашнем дне приводила ее в ужас.
Так она и не уснула этой ночью. Вглядывалась в его спящее лицо, осторожно, стараясь не потревожить, целовала любимое юное тело… И разбудила ровно в половине восьмого, собрав все силы для того чтобы выглядеть если не беспечной, то хотя бы спокойной.
Она видела: поспешно одеваясь, застилая клетчатым пледом кровать, Артем хочет что-то ей сказать. Но, чуть ли не впервые за все это время, Ева не пыталась помочь ему найти нужные слова. И какие это могли быть слова? «Дождись меня, я тебя с мамой познакомлю»?
Уже на пороге Артем сделал какое-то порывистое движение к ней – наверное, хотел обнять, прижать к себе. Но Ева едва заметно отстранилась, ласково приложила руку к его щеке, с мучительной сердечной болью ощутив любимый изгиб скулы под своей ладонью.
– Счастливо, Тема, – сказала она. – Не волнуйся, еще не опаздываешь. Пока багаж получат… Не раньше трех дома будете.
– Да, – тихо произнес он, не отводя глаз от Евиного лица. – Не раньше трех.
Он смотрел вопросительно, словно ожидал, чтобы она продолжила… Но Ева молчала.
– Счастливо! – наконец повторила она. – Ну, иди, иди, у маршруток перерыв может быть.
Надя была дома одна, когда Ева открыла дверь своим ключом.
«Постарела мама, – с какой-то медленной, тягучей печалью подумала Ева. – Раньше сумела бы радость сдержать…»
Ей невыносимо тяжело было видеть, как неприкрыто мелькнула в маминых глазах радость, когда она увидела, что дочь снимает с плеча дорожную сумку на длинном ремне, ставит на пол, идет в свою комнату.
– Я полежу немного, мам, – сказала Ева, не закрывая за собой дверь. – Жарко сегодня.
Глава 7
Гололед этой зимой был ужасный. Дворы на Доброслободской улице, кажется, вообще не убирались, и Ева чуть не подвернула ногу у самого подъезда, уже взявшись за ручку входной двери. Она торопилась, поэтому удивляться было нечему: каждый раз, когда Ева начинала спешить, все у нее шло наперекосяк.
«Правду Тема говорит, – подумала она, поднимаясь по темной лестнице на первый этаж и улыбаясь про себя, – в другом веке мне надо было родиться. Когда жить не спешили».
Сегодня она торопилась главным образом из-за того, что хотела проверить сочинения до возвращения Артема с работы. Конечно, сделать это можно было и попозже, никаких особенных забот по дому у нее не было. Но Еве так жалко было каждой минуты их общего вечера, что она старалась побольше всего сделать до того, как повернется в замке ключ и Артем появится на пороге.
Она вообще впервые в жизни понимала, что значат слова «ценить каждую минуту». Прежде Еве слышалось в них что-то крохоборское, излишне расчетливое, и она не представляла, как можно сознательно следовать этому правилу. Теперь же каждая минута с Артемом была для нее так осознанно драгоценна, что время без него Ева использовала с удивительной для себя рациональностью.
Может быть, эта ее неожиданная рациональность объяснялась просто: слишком хорошо она помнила те минуты, которые прошли совсем без него…
Самым долгим был тогда первый день. Еве казалось, что ночь не наступит никогда, вечно будет длиться этот день, похожий на кошмарный сон.
Хотя внешне ничего особенного с нею не происходило. Да и что могло происходить, если она вообще не выходила из своей с Полинкой бывшей детской, даже не поднималась с кровати? Несколько раз, осторожно приоткрывая дверь, заглядывала мама, но тут же скрывалась в глубине пустой, молчащей квартиры. Ева понимала, что мама хочет хоть что-то от нее услышать, но не находила в себе сил даже для самых простых объяснений.
И что тут можно было сказать? Произошло то, что должно было произойти рано или поздно. Сколько еще можно было бы себя обманывать, считая всю Москву необитаемым островом?
Наконец, когда Надя в очередной раз заглянула в комнату, Ева села на кровати.
– А где Полина? – спросила она, чтобы что-нибудь сказать.
– Да, ты же и не знаешь… – ответила Надя. – Полины нету. – С этюдов своих не вернулась еще? – не разобрав маминых интонаций, переспросила Ева.
– Вернулась. Только ушла сразу же.
Тут Ева догадалась, что мама говорит о сестре не совсем спокойно.
– Как – ушла? – почти удивилась она.
– Да как уходят, не знаешь разве? – усмехнулась Надя. – Как ты, так и она. Только у нее, наоборот, он постарше. Тоже лет на пятнадцать.
Ева слышала, что голос у мамы дрожит, и понимала, как стыдно ничего при этом не чувствовать. Но глубокое, безысходное уныние, в которое она была погружена, не давало ей ощутить даже собственной боли.