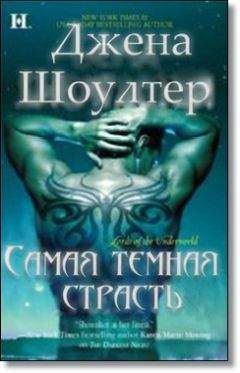Николас Спаркс - Дальняя дорога
– Приятные люди. Очень дружные. Мы столько смеялись за ужином.
Она кивнула, скрестила руки на груди и поежилась от холода.
– Хорошо. Как там София?
– Отлично.
– Я-то вижу, как ты на нее смотришь.
– Да?
– Сразу понятно, что ты чувствуешь, – твердо сказала мать.
– Да? – повторил Люк.
– Успокойся. София – необычная девушка. Я очень рада, что мы познакомились. Думаешь, у вас что-то получится?
Он переступил с ноги на ногу.
– Надеюсь.
Линда серьезно взглянула на сына.
– Тогда расскажи ей.
– Я уже рассказал.
– Нет, – мать покачала головой. – Про то самое.
– Про что?
– То, что сказал нам врач. – И Линда продолжала, не трудясь выбирать слова: – Скажи Софии, что если ты не бросишь ездить, то скорее всего умрешь через год.
Глава 20
Айра
– Бродить по дому ночью – это совсем не то же, что читать письма, – внезапно говорит Рут.
– Что ты имеешь в виду?
Я пугаюсь, вновь заслышав ее голос после долгого молчания.
– Картины не похожи на дневник, который ты написал для меня. Я могла прочесть все письма, а ты не видишь все картины. Многие сложены в тесных комнатах, и ты годами их не видел. И на те, что лежат в ящиках, ты не смотришь. Сейчас ты их даже не сумеешь открыть.
Она права.
– Я позову кого-нибудь, – говорю я. – Сменю картины на стенах. Как ты обычно делала.
– Да, но когда я вешала картины, то знала, как добиться максимального эффекта. Тебе недостает вкуса. Ты просто заполнил свободные места чем попало.
– Предпочитаю эклектику.
– Это не эклектика. Это пошло, громоздко и пожароопасно.
Я ухмыляюсь.
– Значит, хорошо, что никто не приходит в гости.
– Ничего хорошего, – возражает Рут. – Ты, конечно, застенчив, но всегда черпал силы, общаясь с людьми.
– Я черпал силу у тебя, – говорю я.
Хотя в машине темно, я вижу, как она закатывает глаза.
– Я говорю о покупателях. Ты обращался с ними по-особенному. Вот почему они оставались твоими преданными клиентами. И поэтому магазин разорился, как только ты его продал. Потому что новых хозяев больше интересовали деньги, чем качество услуг.
Рут, возможно, права, но иногда я думаю, что причиной тому стал скорее меняющийся рынок. Еще до того, как я отошел от дел, магазин начал привлекать все меньше покупателей. В других районах Гринсборо открывались крупные торговые центры с большим ассортиментом, и, когда люди начали массово переселяться в пригороды, магазины в старых кварталах стали хиреть. Я предупредил об этом нового владельца, но он намеревался двигаться в ногу со временем, и я ушел, зная, что поступил с ним честно. Пусть магазин и не принадлежал больше мне, я ощутил острое сожаление, когда узнал, что он вот-вот закроется после девяноста лет бурной торговли. Старые галантерейные магазины – одним из таких я заправлял несколько десятилетий – канули в прошлое вместе с фургонами переселенцев, антеннами на крышах и дисковыми телефонами.
– Конечно, моя работа совсем не похожа на твою, – наконец говорю я. – Я не любил магазин так, как ты любила школу.
– Зато я отдыхала целое лето.
Я мысленно качаю головой.
– Все из-за детей. Ты вдохновляла учеников, а они тебя. Каким бы запоминающимся ни было лето, в конце концов тебе не терпелось вернуться в школу. Потому что ты скучала по детям. По их смеху, любознательности и наивному взгляду на мир.
Рут смотрит на меня, подняв брови.
– Откуда ты знаешь?
– Ты сама говорила.
Рут работала в третьем классе. Она полагала, что это один из самых важных периодов в жизни школьника. Большинству учеников было восемь-девять лет – возраст, который Рут всегда считала переломным в образовании. Дети уже вполне взрослые, чтобы понять некоторые вещи, совершенно чуждые им год назад, и в то же время достаточно маленькие, чтобы с абсолютным доверием подчиниться руководству взрослых.
А еще, с точки зрения Рут, в восемь-девять лет ученики начинают разделяться по успеваемости. Одни обгоняют, другие отстают, и этому причин бесчисленное множество. Но в той конкретной школе и в ту конкретную эпоху большинство учеников – и их родителей – образование не интересовало. Дети ходили в школу до восьмого-девятого класса, а потом бросали учебу и целый день трудились на ферме. Перед Рут стояла проблема, которую нелегко было решить. Из-за некоторых учеников она не спала ночами, никак не могла успокоиться и годами разрабатывала учебные планы, не оставляя надежды достучаться до детей и родителей. Она заставляла ребят высаживать семена в стаканчики из-под кофе и подписывать ярлычки, надеясь пробудить охоту к чтению. Она ловила с учениками жуков и давала им имена, поощряя интеллектуальный интерес к миру природы. Контрольные по математике непременно включали задания, в которых шла речь о сельском хозяйстве и деньгах: «Если Джо собрал с каждого дерева четыре корзины персиков, а в каждом из шести рядов было пять деревьев, сколько всего корзин он соберет?» Или: «Если у тебя есть двести долларов и ты купил семян на сто двадцать, сколько денег останется?» Рут обращалась к тому, что имело значение для детей – и чаще всего ей удавалось добиться своего. Пускай некоторые и уходили из школы раньше времени, впоследствии они иногда навещали ее и благодарили за то, что она научила их письму, чтению и основам математики – в достаточном объеме, чтобы справляться с подсчетом расходов.
Рут этим гордилась – и, разумеется, гордилась учениками, которые все-таки оканчивали школу и поступали в колледж. Но нередко попадались дети, в очередной раз напоминавшие Рут о том, отчего она решила стать учительницей.
И тут я снова возвращаюсь к рисунку над камином.
– Ты думаешь про Дэниэла Маккаллума, – говорит Рут.
– Да. Про твоего любимого ученика.
Лицо у нее оживляется, и я знаю, что она видит Дэниэла столь же ярко, как и в первый день. На тот момент Рут уже пятнадцать лет проработала в школе.
– Он был очень сложным ребенком.
– Да, ты говорила.
– Поначалу страшно запущенный. Всегда ходил в грязной одежде и ни минуты не мог посидеть спокойно. Я каждый день его ругала.
– Но ты научила Дэниэла читать.
– Я их всех научила читать.
– Он отличался от других.
– Да, – признает Рут. – Он был крупнее других мальчишек и на перемене колотил их до синяков. Я поседела из-за Дэниэла Маккаллума.
Я до сих пор помню, как она на него жаловалась, но ее слова неизменно окрашивало искреннее сочувствие.