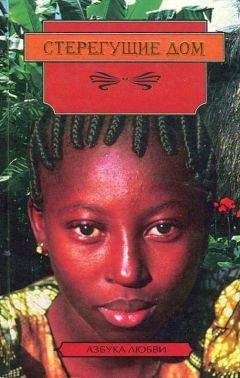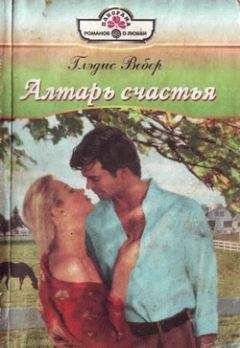Ричард Райт - Долгий сон
Снимали у Тайри квартиру Джейк и Гьюк, горькие пьянчуги, в чьем ведении находился катафалк, он же санитарная машина, и каждый раз Рыбий Пуп обязан был выслушивать от их жен полный перечень семейных горестей. Жена Гьюка, затурканная, щуплая и пугливая, как мышонок, была матерью четырех ребятишек мал мала меньше и начинала обычно с одного и того же вопроса:
— Мистер Таккер, сильно Эд Гьюк выпивает на работе? Боже милостивый, уж и не придумаю, что мне делать с мужиком! Стараешься быть ему хорошей женой — не помогает. Ведь он, вы знаете, было время, работал на почте и прилично зарабатывал, а как пристрастился жрать виски, так и рассчитал его дядя Сэм. Сколько зла нашей семье из-за этого виски. Сколько я слез пролила, на колени становилась перед Эдом, а он знай себе хлещет без удержу. Мне бы столько долларов, сколько он вылил в себя бутылок, то и работать не надо, без того хватило бы на прожитие… С чего это он, мистер Таккер? Думается, не иначе это его забота грызет… Мистер Таккер, у меня к вам вопрос, очень серьезный, и про что я спрошу, пусть то останется между нами, ладно? Слышала я от людей, что будто у нас, у черных, мозги не так устроены, как у белых, вроде у белых в голове мозги впереди, а у черных — сзади… Правда это, мистер Таккер, как вы скажете? Вам-то небось известно. Вы же видите, как там чего у покойников. Если у черных мозги позади, тогда, выходит, им никак невозможно правильно думать, а, мистер Таккер? Перепутаются мысли, пока дойдут сзаду наперед, да половину растеряешь по дороге и не будешь знать, чего тебе делать. Может, и Эд Гьюк поэтому забывает, когда ему велишь не пить? Господи, хоть бы мне излечить как-нибудь муженька от пьянства. А то ведь на хлеб не хватает. За квартиру наскребешь кое-как, и все. Детишкам одеться не во что. И все оттого, что Эд выпивает…
И Рыбий Пуп уходил, обещая, что последит, чтобы Эд Гьюк не пил, а заодно и выяснит, в какой части головы, передней или задней, у черных людей находится мозг.
Донимала его и жена Джейка Лэма, у которой был свой камень на душе. Миссис Лэм, женщина предприимчивая, открыла у себя в гостиной парикмахерский салон. Стоя в клубах горелого масла, миссис Лэм продиралась раскаленным железным гребнем сквозь сальные курчавые патлы волос, паля их домертва, чтобы выпрямить и сделать похожими на волосы белых людей.
— Мистер Пуп, — начинала она, — когда говорят «цветные», это как понимать — африканцы, или американцы, или же попросту черные? Как бы мне это повернее узнать? Раньше-то, когда мы приехали из Африки, мы были черные, но ведь какой только крови в нас не намешано с тех пор — и красной, и белой, и черной, и коричневой… Про нас и «белые» не скажешь, поскольку кожа у нас другого цвета, но и черными уже тоже не назовешь. Вот прозвали нас белые люди «цветными», а не потому ли это, что не знают, какое у нас правильное название? Ведь как-то надо нас называть? И что я думаю, мистер Пуп, — возможно, из нас получилась новая раса, как, к примеру, из индонезийцев… Тогда нам и название нужно найти новое, как вы полагаете? И коли найдем, оно тогда, может, все и образуется, а, мистер Пуп? — И миссис Лэм в задумчивости проводила горячим гребнем по длинным прядям курчавых волос, выпрямляя их.
Поздно вечером, подавленный и усталый как собака, Пуп однажды пожаловался Тайри:
— Знаешь, пап, хожу, собираю квартирную плату — и вот что я вижу. У всех у наших поголовно одна болезнь… Какого ни встретишь черного, обязательно у него свет клином сошелся на белых, одна забота — про белых говорить день и ночь. Пускай он смеется, пускай поет, пляшет, все равно ему нет покоя.
— Это ты, Пуп, выброси из головы. Твое дело — собирать деньги. Сколоти побольше долларов, и век не будешь знать забот. Доллар, он все вопросы решает. Наживи миллион, и я посмотрю, какие у тебя останутся заботы. А до той поры даже не поминай мне про белых и черных.
Рыская за долларами, Рыбий Пуп заново открывал для себя мир Черного пояса, изо дня в день ощущая под ладонями нити убожества и чахлой надежды, из которых соткана его жизнь. Все более яркие и отчетливые очертания обретала вселенная его расы, это странное образование на огромном теле, именуемом миром белых, за счет которого оно существует и познать который по-настоящему его людям не дано.
Как-то утром директор школы Батлер полушутя-полусерьезно дал бывшему ученику ключ к пониманию устройства этой вселенной, открыв ему истоки ее своеобразной силы и происхождение ее непостижимого бессилия.
— Ну что ж, милый Пуп, жаль мне было узнать, что ты покидаешь школу, — сказал Батлер. — Но уж если ты действительно задумал идти работать, я ни в коем случае не стану тебя отговаривать. Я тебе дам на дорогу один стишок, и пусть он поможет тебе понять твой народ. Правда, придумал его не я… а впрочем, вот послушай:
У большого негра есть негр поменьше,
чтобы помыкать им.
А у небольшого есть еще поменьше,
чтобы помыкать им.
А большие негры набольших таскают
у себя на шее,
А совсем большие — на себе таскают негров-великанов.
…начинай сначала[2].
Вдумайся в этот стишок, Пуп, и ты увидишь, что он многое объясняет. На спине у наших людей сидят белые, а наши сидят на спине у своих же, и да поможет Бог черному горемыке, которого угораздило попасть в самый низ.
Рыбий Пуп посмеялся этой прибаутке, но теперь, ныряя в пыльные улочки по душу неплательщиков, проталкиваясь сквозь толпу в дансингах, обегая бары, пивнушки, харчевни, он убедился, что в ней больше мудрости, чем юмора. То, что он видел и слышал, наводило его на мысль, что негры живут словно во сне. Он чувствовал, как глубоко укоренилось в них вялое безразличие и тупая бесцельность, как ужасающе скуден и узок круг их духовной деятельности. Постель — церковь — пивная. Он видел, как они теряют равновесие, как они готовы вспылить, взорваться по любому пустому, ничтожному поводу. Его Черный пояс был рассадником преступлений, направленных против человеческой личности: то нападение на улице, то перестрелка, то поножовщина, рожденная в пьяной сваре. Бьем своих же и сами того не видим, поражаясь, говорил он себе.
Неспособный пока еще подняться до беспристрастных суждений, он не мог и выделить в жалкой жизни, которую наблюдал, самых существенных ее черт и направлений — что-то тут было в корне неправильно, но что именно, он не представлял себе. Его жестоко и грубо коснулся своею рукой непостижимый для него мир белых, заронив ему в душу ощущение неловкости за тот образ жизни, который ведут он и ему подобные, однако его пониманию остались недоступны взгляды, господствовавшие в этом чуждом мире, который заставил его почувствовать себя чужаком и в своем собственном. Волей-неволей, примиряясь с тем, что в глазах белых он неотделим от своего народа, он в глубине души как будто побаивался этого народа и, говоря на его языке, разделяя его радости и печали, все же какой-то частью своего существа сторонился его, словно бы стыдясь.