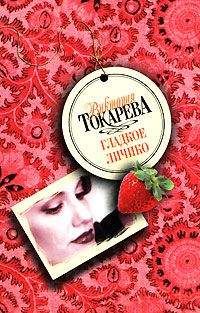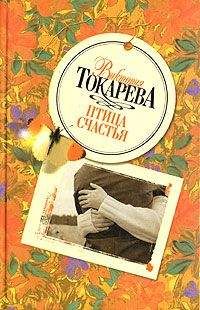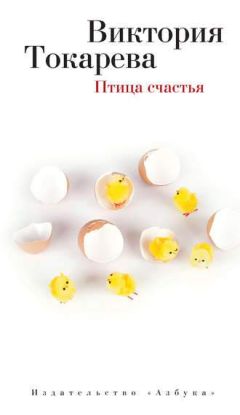Виктория Токарева - Гладкое личико (сборник)
Кошка сидела под деревом, ждала его и не шевелилась. То ли уснула, то ли приготовилась ждать долго и задумалась о своем.
Климову стало жарко от прилива горячей благодарности. Значит, кошка верно оценила его душевные ресурсы. Значит, это действительно личностный зверь: ведь чем благороднее личность, тем больше добра предполагает она в других. Благородство одного рождает благородство в партнере. Климов устремился к дереву, проваливаясь почти до подмышек. И вдруг стал, будто его толкнули в грудь.
Это была не кошка. Это был сук – тот самый, которым он в нее бросил.
Климов стоял и слушал в себе опустошение. В этом опустошении гулко и трудно, будто вхолостую, билось сердце. Луна остановилась над Климовым и походила не на светящийся череп, как он где-то прочитал, а на планету, если на нее смотреть с большого расстояния. То есть Луна походила на себя самое. И Земля, наверное, выглядит так же, если на нее смотреть с Луны. Только Луна – желтая. А Земля – голубая.Любовь и путешествия
Когда Прокушев появился утром в таксомоторном парке, к нему подошел председатель месткома Проценко и сказал, что есть туристические путевки во Францию. На десять дней.
– А сколько стоит? – поинтересовался Прокушев.
– Семьсот рублей, – сказал Проценко.
– Ого! – поразился Прокушев. – Семьсот рублей за десять дней. Я за эти деньги три месяца должен вкалывать, каждый день по семь часов.
– Ну не бери, – разрешил Проценко. – Тебя же не заставляют.
Прошла неделя. Прокушев работал то в первую смену, то во вторую. Но и в первую смену, и во вторую, а иногда и ночью он не переставал думать о туристической путевке. Конечно, думал он, десять дней в девять раз меньше, чем три месяца. Но зато ведь эти десять дней – не где-нибудь, а во Франции, где прямо по улицам ходят парижанки, и даже маленькие дети и те говорят по-французски. А три месяца, девяносто дней, так же как и все остальные дни, – это такси со счетчиком и жена Люська, которая после родов растолстела на тридцать килограмм и в ее лице появилось что-то сонное. И сколько ей ни приноси – все мало и все кажется, что Прокушев деньги зажимает, поскольку чаевые – доход неконтролируемый.
А для чего человек живет? И вообще – человек он или свинья, которая только и делает, что глядит в землю, ищет желуди. А потом постареет, шея станет тяжелой, уже не поднять головы, чтобы поглядеть в небо.
Прокушев высадил очередного пассажира, развернул машину и вернулся в таксомоторный парк. Поднялся на второй этаж, вошел в кабинет к Проценко и сказал:
– Давай путевку. Все же это Париж.
– А ты в Болгарии был? – спросил Проценко.
– Не был.
– А я был. Там вместо «да» говорят «нет». Вот так: «нет». – Проценко кивнул. – А так: «да». – Проценко отрицательно потряс головой.
– А я решил съездить во Францию, – поделился Прокушев. – Черт с ними, с деньгами. Не в деньгах счастье…
– Спохватился, – без издевки, а скорее с симпатией заметил Проценко. – Ее уж взяли давно, твою Францию.
– Как? – не понял Прокушев.
– Всего ж две путевки было.
– А кто взял? – осевшим голосом спросил Прокушев. Он думал, что, может, еще не все потеряно и можно что-то переменить: уговорить, взяв за пуговицу и глядя в глаза.
– Ну какая разница, – не ответил Проценко, пожалев чью-то пуговицу и глаза. – Взяли, да и все.
Нос у Проценко был короткий, расстояние от носа до губы – долгое и разделено бороздкой, как у зайца. Прокушев почувствовал, что ненавидит эту бороздку. Он быстро вышел из кабинета, стал спускаться по лестнице и понял, что его раздражает эта лестница с крашеными перилами. А дома – дом, вместе с Люськой и в какой-то степени, гораздо меньшей, но все же – дочкой Настькой. Настька чувствовала раздражение отца и, вернувшись из школы, обедала не на кухне, а у себя в комнатке. И сидела тихо как мышь. Люська тихо вздыхала из глубины души, жалея пропащую свою жизнь. Но тихо у нее не получалось, и она вздыхала гулко, как корова в стойле. И это вместо Парижа.
Был вторник. Четный день. Прокушев подъехал к мойке, чтобы вымыть машину, и увидел, как новенькая мойщица Райка ругается со своей непосредственной начальницей. Райка неистовствовала за стеклом. Слов не было слышно, а только видно, как Райка, в коротком платье, с волосами, убранными под ленточку, потрясает руками то вверх, то в стороны, то вместе, то поврозь. Прокушев почему-то впервые в жизни подумал о том, что человек – часть природы и Райкин гнев похож на весеннюю грозу, когда яростный дождь лупит по молодым листьям. В детстве Прокушев всегда выбегал под такую грозу, подставлял лицо дождю и жмурился. Когда это было… Если бы сейчас Прокушев выбежал под грозу, сняв ботинки, все подумали бы, что он сумасшедший, и из сострадания вынесли бы зонт.
Райка тем временем доругалась с начальницей, даже не доругалась, а прервалась на кульминации, и выскочила из мойки с лицом нежно пламенеющим, как тюльпан.
– Рая, – остановил ее Прокушев, – пойдем сегодня в кино…
– Так ты ж женатый, – удивилась Рая, наивно полагая, что женатые люди ходят в кино только с женами или не ходят вообще. Сидят дома.
– Щас женатый, щас холостой… – неопределенно пообещал Прокушев.
– Ну вот, будешь холостой, тогда и приходи, – сказала Райка, глядя на него промытыми синими глазами.
– А пойдешь? – серьезно спросил Прокушев.
– Пойду, – серьезно ответила Райка и побежала по своим делам, забыв о недавней ссоре. Потом обернулась и махнула Прокушеву куцей ладошкой.
«Еще чего… – подумал Прокушев. – Вас много. Женись на всех». Жена Люська, хоть и толстая, однако человек верный. Проверенный. Ей и с места-то лень подняться… А Райка бегает, руками машет… Иметь за спиной такую Райку – все равно что иметь шпиона в собственном генеральном штабе. Перебежит при удобном случае, как Курбский от Ивана Грозного к полякам. К тому же Прокушев – человек ревнивый до безобразия. Если что – он ее или выгонит, или убьет и сядет в тюрьму. Второе даже вероятнее. А тюрьма – это не та перспектива, к которой человек должен сознательно стремиться.
День выдался солнечный. Прокушев включил в машине приемник, станцию «Маяк». Оттуда доносилась музыка – то нежная, то веселая. Машина была полна музыкой и как бы парила в веселье и нежности. И пассажиры рядом с Прокушевым переставали торопиться, а как бы выпадали из времени и говорили почему-то об одном и том же: о странностях любви.
Прокушев вдруг понял, что влюбился в молодую мойщицу Раису Никаноровну, и понял, что состояние влюбленности – это норма. А жить без любви – это болезнь, которую нельзя запускать ни в коем случае, иначе душа умрет. Душа погибнет без любви, как мозг без кислорода. Конечно, думал Прокушев, Люська человек верный, крепкий. Да ведь как говорит теща: «Тюрьма крепка, да черт ей рад»… А с Райкой может быть счастье – такое густое, что если пожиже развести, на три жизни хватит. И еще останется.