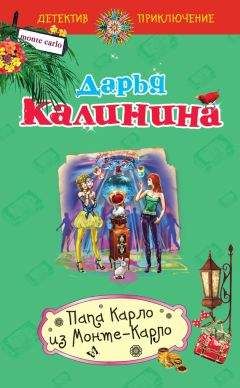Мария Спивак - Черная магия с полным ее разоблачением
Кризис среднего возраста. Как легко поставить диагноз и как мало он объясняет. В сущности, с тем же успехом можно говорить: «приворот». Так даже проще: приворот — явление волшебное, не нуждающееся в рациональных объяснениях. А «кризис среднего возраста» — что это? Десятки психологических терминов, нанизанных на нитки, как сушеные грибы. Нельзя утолить голод, размахивая перед собой грибной связкой. Точно так же невозможно преодолеть загадочный «кризис», кидаясь учеными словами.
Я не сомневаюсь: Иван, как и миллиарды мужчин до него, понимал, что с ним происходит, и вполне искренне хотел поступить правильно — а точнее, надеялся избежать неправильного. Ведь всякий на его месте знает, что правильно, а что нет. Я в данном случае не имею в виду непременное сохранение семьи, скорее, принятие решения и готовность отвечать за последствия. Увы: Ваня и владел собой не больше, чем миллиарды мужчин до него; он метался и бездумно разрушал все вокруг, подчиняясь чувству, а не доводам рассудка. Инстинкт — грозная сила.
Следует ли из этого, что человек — животное? Да, безусловно. Но животное особенное, наделенное механизмом, позволяющим обуздать собственную природу. Как называть этот не всегда удобный механизм — сознание, совесть, душа — в сущности, не имеет значения. Главное, что он есть и дает нам возможность вознестись над собой — или не упасть до самих себя, не знаю, как правильней выразиться. Так или иначе, принимать звериный облик необязательно, и даже самому большому грешнику втайне это известно.
Вообще, праведная тропка в бурьяне нашей жизни едва различима, и все-таки многим до нас удавалось ее отыскать. Надеюсь, удастся и нам с вами — а главное, моему сыну.
ИВАНЕсли честно, я всегда был любитель женщин. До Таты, при первой жене, как говорится, юбки не пропускал, даже не в смысле койки, а так, вообще… взглядом обласкаешь — уже приятно.
Встреча с Татой меня, естественно, изменила — уж очень влюбился — но, что называется, сколько волка ни корми… Красивое личико в толпе, чьи-то блестящие глазки, облегающие брючки сотрудницы: тоник, глоток свободы, маленькое каждодневное удовольствие. Что особенно замечательно, невинное; ручки-то — вот они. Предался на минутку фантазиям — и дальше побежал, по серьезным делам, на работу, с работы, в химчистку.
Сам на себя не нарадуешься: ну до чего идеален. Я — солнце, я — горячее солнце…
Конечно, были и командировки — протуберанцы порока. Но и в том имелся свой кайф; как же я любил, обожал, боготворил Татку, когда возвращался домой! Лишь сейчас понял: грядущее раскаянье придавало дополнительную сладость греху. Парадокс? Пожалуй, что нет, не очень-то. Дело известное.
Все это, увы, осталось далеко-далеко, в прошлой жизни. Теперь я свободный человек, волен делать что хочу — но не хочу ничего, и вот где настоящий парадокс. Нет, со мной все в порядке — даже депрессии нет — только всякие, по выражению моего отца, амуры перестали меня интересовать. Притом, что эстетическое чувство вкупе с физиологией остались при мне, а женщины чуют холостяка за версту. Вот такая незадача.
Я по-прежнему замечаю симпатичные мордочки и ладные фигурки и, как пес, в любую минуту могу встрепенуться и навострить уши, но почему-то, получая ответный импульс, смущенно отвожу глаза и сворачиваюсь клубочком, притворяясь, будто меня не так поняли. Я не знаю, не понимаю, в чем дело. В том, что плод перестал быть запретным? Возможно. Честно говоря, разбираться не хочется, но факт остается фактом: после ухода Лео, если не считать совсем уже идиотских приключений, я храню нерушимую верность… кому? Ей? или Тате? Вопрос.
Обеим, наверное. Точнее, нашему общему тройному несчастью. Заглядывая в глаза какой-нибудь милой девушки, я невольно вижу в них слезы Таты и затравленное ожесточение Лео — и, вздрогнув, испуганно отворачиваюсь. Не хочу быть причиной страданий и сам не хочу страдать. Обжегся на молоке и дую на воду, да. Ну и что?
Отец прав: если б я по-настоящему любил Лео, все повернулось бы иначе. Тата поняла бы меня, и я твердо знал бы: другого пути нет. Мы бы справились, сумели сохранить дружбу. Сейчас ведь, в конце концов, Тате без меня только лучше. Но дело не в ней, а во мне.
Уходя из дома, я написал: дальше так невозможно, прошлое умерло, осталась одна совесть, а на этом не выплывешь. Но оказалось, что совесть тоже очень важный орган К тому же, на редкость деспотичный: попробуй, поступи наперекор. Замучает.
Кто — кто, а я на личном опыте убедился, как важно к ней прислушиваться.
Сейчас она велит мне быть рядом с Татой. Да, у нее Америка, Майк, успехи. Но и я могу ей понадобиться; мало ли что в жизни бывает. Пусть я потерял ее доверие, но она для меня осталась самым близким человеком, кому как не мне ее защищать? Кто как не я должен отвечать за жену, отца, сына?
Я не уверен, что хочу снова жить с ними вместе. Слишком стыдно, и слишком много поломано — вряд ли починишь. Сомневаюсь, что мог бы опять чувствовать себя хозяином в своей квартире. Вот на коврике у двери, в качестве монашеского послушания, было бы ничего, терпимо. Утрирую, конечно, но в каждой шутке…
Нет, к коврику я еще не готов, остаются пока другие интересы. Но, раз вместе — нельзя, а рядом быть нужно, я буду. Так, где-нибудь под рукой, в пределах досягаемости, на страже. На своем месте. Все-таки для человека главное — его семья и дом…
— Ну, а девушки? — спросят скептики, разбавляя патетику.
Все уже наверняка догадались, что я пропою в ответ.
ТАТАВ погожие будние дни, пока Майк на работе, я часто сижу на скамейке в Центральном парке с блокнотом и делаю зарисовки — просто так, ради собственного удовольствия. Мне нравится звук, с которым остро отточенный карандаш движется по бумаге, и то особое ощущение в руке, когда она, будто сама по себе, начинает работать, и когда главным становится ни о чем не думать, не отвлекаться — и не мешать.
За полтора года я уже третий раз в Нью-Йорке и больше не чувствую себя туристкой. Я здесь живу — и мне хорошо. У меня появилось много любимых мест, но Центральный парк — любовь с первого взгляда. Если я не рисую, то хожу по дорожкам и удивляюсь тому, как все в моей жизни переменилось. Откуда взялось это умиротворение, этот безмятежный покой? Куда бесследно исчезли мои страдания? И зачем они были нужны, если сейчас я почти их не помню? Поистине, пути Господни неисповедимы. Признаться, я не надеялась на спасение — после сделки с дьяволом я и прощения не ждала.
Но, раз меня до сих пор не испепелили, может, все-таки удастся ее расторгнуть?
Вот только как? «Отпусти меня, будь человеком», — попросила я в один прекрасный день, глядя на желтеющую листву и ярко-синее небо. Услышал ли он? Не знаю. Кажется, да: на душе у меня с тех пор стало совсем легко, несмотря на совет, неожиданно переданный бабой Нюрой через Сашку: «пускай не обольщается заморскими петухами».