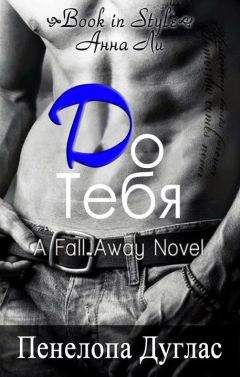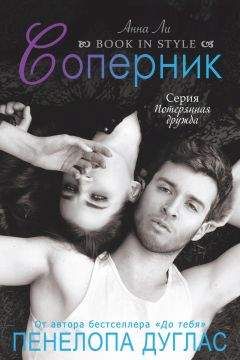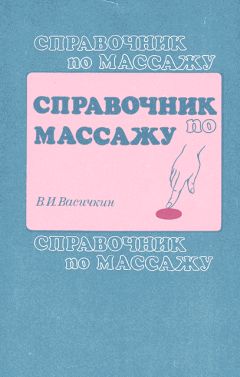Если бы не моя малышка (ЛП) - Голден Кейт
— Я никогда не смогу устать от тебя, Клем. Каждая минута с тобой делает меня счастливее. А расстояние не имеет значения, теперь, когда я закончил с турами.
— И что? — спрашиваю я. — Ты бросишь графство Керри и переедешь в городок в Техасе с шести тысячами жителей? Ты не покинешь свою семью, Том. Друзей. Конри. Я не хочу отнимать у тебя всё, что ты любишь.
— Ты ничего не отнимаешь. Ты... — он открывает рот, но, видно, передумывает, потому что закрывает его снова. Однако в голосе нарастает тревога. — Не делай этого. Не своди всё к километрам между нами. Я знаю, ты боишься, но…
— Дело не в этом.
— А не в этом ли? — его голос становится мягче, но острее. — Ты боишься, что ничего настолько хорошее не может длиться вечно. Что я в итоге брошу тебя — или стану нуждаться в тебе слишком сильно, или, наоборот, слишком мало. Что, как ни поверни, ты окажешься разбитой, поэтому ты обрываешь всё заранее. Ты просто боишься, Клементина.
Его слова попадают точно в солнечное сплетение. Они обнажают меня до сути. Он смотрит прямо в душу, раздевает до страха, до боли. Понимает меня так, как я всю жизнь старалась не позволить никому понять. Это первобытное чувство — быть вот так узнанной. Это чудо, и мне хочется его сжечь.
— Я просто рассуждаю рационально, Том. Тур окончен… Всё всегда должно было закончиться именно так.
Его глаза полны слёз — мучительно зелёные и красные, как выжженный пожаром лес.
— Я не обещаю тебе жизни без боли. Никто не может. Но я клянусь хранить твоё сердце всем, что у меня есть.
— Мне всё равно.
— Нет, тебе не всё равно, — шепчет он. Слеза скатывается по щеке, он стирает её. — Я знаю, что нет.
— Ничего, что ты скажешь, не изменит моего решения.
Он уже по-настоящему плачет.
— Клементина, — он всхлипывает, качая головой с безжизненным смешком. — Клем, ты разбиваешь мне сердце.
Мы стоим под гудящим светом в переднем отсеке автобуса. Когда-то Сальваторе вышел, оставив нас одних. Том проводит рукой по бороде, по пальцам катятся новые слёзы.
Я не могу смотреть, как страдает человек, которого я так сильно люблю. Я не создана для этого. Или слишком слаба — не знаю. Но, какой бы ни была причина, я встаю на цыпочки и обвиваю его шею.
— Господи, — шепчет он, одной рукой всё ещё держит меня, другой вытирает глаза. — Я ведь даже не планирую новый альбом. Я беру паузу. Всё это больше не важно. Ради тебя я бы всё бросил. Ты можешь…
— Том, — я утыкаюсь лицом ему в шею, — просто обними меня.
И он обнимает. Мы стоим в тусклом свете, пока у меня не сводит ступни. Я плачу, и мне кажется, что через эти слёзы из меня выходит всё горе, накопленное за годы. Том молча гладит меня по волосам.
Я думаю обо всём, что хотела бы ему сказать. Что ему не стоит бросать музыку, даже если без неё нам было бы проще. Что мне страшно оставить маму и свой Черри-Гроув ради чужих мечтаний — так же, как ему страшно оставить свои. Что мне жаль, что он не рассказал правду о себе и Каре, даже если бы это лишь подтвердило всё, чего я боялась.
Когда я, наконец, отпускаю его и беру сумку, остаётся лишь одно, о чём я буду жалеть, если не скажу.
— Том?
Он кивает, снова вытирая глаза и засовывая руки в карманы.
— За эти два месяца ты многое мне открыл. Думаю, раньше я смотрела на мир в чёрно-белом. А ты показал мне цвета. Но главное, что я поняла — позволить себе влюбиться требует куда больше смелости, чем прятаться за цинизмом, надеясь никогда не быть раненой. — Что-то ломается у меня внутри, но я продолжаю, потому что уже слишком далеко зашла. — Поэтому я должна сказать тебе, что солгала в Нью-Йорке.
Он молчит. Может, боится, что не сможет говорить, не расплакавшись. Эта мысль пронзает меня насквозь.
— Я сказала, что не влюблюсь в тебя. — Кривлюсь в печальной улыбке, слёзы текут по щекам. — Но я влюбилась.
Он кивает, глаза вновь наполняются влагой.
— Я люблю тебя, Клементина, — говорит он тихо. — Так сильно, что это убивает меня.
И на этом заканчивается весь запас моей храбрости. Последние восемь недель я была другой — смелее, увереннее, счастливее. С новыми мечтами, верой в себя и настоящей, огромной любовью. Но жить в сказке я больше не могу.
Я оставляю Тома там, в том автобусе, вместе с той версией себя.
И не оборачиваюсь.
36
— Готово...
Новая юная официантка с целым ртом брекетов тянется за дымящейся сковородкой с фахитас.
— Осторожно, — предупреждаю я. — Обжигающе горячая.
Девчонка успевает отдёрнуть руку — кожа цела. Я ловко, привычным движением, беру прихватку и перекладываю блюдо на поднос, потом протягиваю ей.
— Остынет к тому времени, как дойдёшь до восьмого столика.
— Спасибо огромное! — улыбается она, сверкая металлом и цветными резинками. — Майк был прав, вы тут всё знаете!
Я стараюсь удержать вежливое выражение лица. — Когда-нибудь и ты разберёшься.
Она пожимает плечами: — Вряд ли. Я же уезжаю в колледж в сентябре. В NYU.
— Поздравляю, — говорю я, и голос чуть натягивается. — Если когда-нибудь соскучишься по зелени, в Центральном парке есть место под названием Sheep Meadow.
Она снова ослепительно улыбается, и я думаю о её брекетах всю дорогу домой. О том, какой молодой я была, когда сняла свои. О том, как широко тогда раскидывалось моё будущее — как летний луг, полный возможностей. И о том, как я ничего из этого не сделала.
Телефон издаёт сигнал.
Молли Морено: Эй. Мы можем поговорить?
Желудок скручивается. Я бросаю телефон в сумку. Не хочу слышать, как она скажет, что я поступила подло, уехав из Лос-Анджелеса без прощания, или расскажет, вместе ли снова Том и Кара. Я оставила тот мир позади. Мне нужно двигаться дальше.
Но стоит включить радио, чтобы заглушить мысли, — и меня атакует его голос.
— Обнажись под моими беспокойными руками… — поёт он. — Или просто напевай на кухне, пока я готовлю нам завтрак. Всё, что угодно, лишь бы знать, что ты всё ещё здесь.
Прилив горя так силён, будто его можно взять в ладони. Где-то там, далеко, Том смеётся, читает, перебирает струны. Он будет повсюду, где меня нет. Он проживёт целую жизнь, осветит мир всеми цветами, а я останусь здесь, в Черри-Гроув, без него.
И хоть всё напоминает мне о нём, я продолжаю искать его в каждом звуке. Это «Heart of Darkness» играет в аптеке? Ирландская медсестра, помогающая маме с клиническим испытанием, — не из графства ли Керри? Я безжалостна в своей одержимости болью.
Я выключаю радио, будто отмахиваюсь от шершня, но жало остаётся. Опускаю лоб на руль и сижу так, пока кто-то не сигналит сзади.
Дома меня встречает Уиллоу — вся дрожит от счастья, виляя хвостом. Я опускаюсь, прижимаю её к себе. Она, наверное, уже устала от моих объятий — за две недели я выяснила, что прижимать к груди собаку — едва ли не единственное средство от разбитого сердца.
— Мам, — зову я. — Ты ужинала?
Ответа нет, и по рукам пробегает холодок.
Фибромиалгия не убивает, но постоянная боль не раз вгоняла маму в депрессию. В голове вспыхивает картина: мне шестнадцать, мама пьяная, рыдает в ванне, шепчет, что так жить невозможно.
— Мам! — кричу я, сбегая по ступенькам в подвал.
Но и там пусто.
Ноги несут обратно вверх быстрее, чем за последние годы. Уиллоу несётся за мной. Я зову маму ещё трижды, прежде чем понимаю, что дома её просто нет. Массирую лоб, ругаю себя за паранойю — и в этот момент дверь открывается.
— Привет, милая, — говорит мама, входя с полным пакетом из магазина для творчества: из него торчат кисти, губки и резак для глины. — Там была распродажа!
Я иду за ней на кухню и в лёгком шоке наблюдаю, как она высыпает покупки на стол, достаёт овощи из холодильника и начинает их шинковать.
— Ты снова занялась керамикой?
— Не хочу сглазить, но испытания идут очень хорошо. Подумала: почему бы не купить новые материалы, отпраздновать?