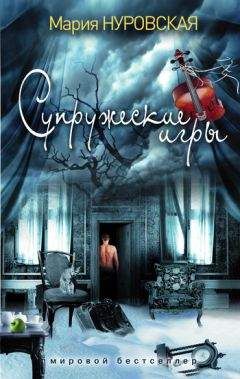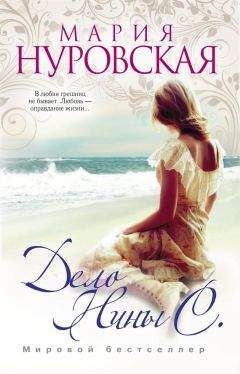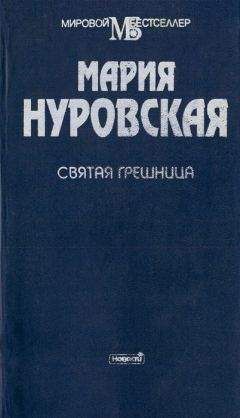Мария Нуровская - Святая грешница
— Шеф меня хочет выбросить? — невинно улыбаясь, спросила я.
— Что ты? — искренне удивился он. — Теперь у тебя будет только один клиент.
Я хорошо знала, кто будет этим клиентом. Вера, глядя на меня со смешанным чувством удивления и страха, тоже знала. Боялась ли я?.. Может быть, ведь мне исполнилось только семнадцать лет. Я чувствовала себя словно под наркозом, но временами он переставал действовать, и тогда я снова становилась испуганным ребенком.
Прошло три дня, а я продолжала сидеть за столиком и скучать. Решила даже принести с собой книжку, хотя не знала, позволит ли шеф читать… Наконец он заявился. Даже не посмотрел в мою сторону, пересек зал и исчез в служебном помещении. Через какое-то время прибежал раскрасневшийся шеф и приказал мне идти в комнату на первом этаже. Чтобы туда попасть, нужно было пройти через администрацию. Я не зажгла свет и, споткнувшись о стул, зацепила чулок. Открывая дверь, думала только о спущенной петле. А может, таким образом хотела отодвинуть от себя страх. Войдя, мне показалось, что никого нет. Потом я увидела его. Он стоял у окна спиной ко мне. «И снова спина», — подумала я. Смеющийся Отто медленно повернулся, и мы взглянули друг на друга. Но я не могла рассмотреть его лица. Когда же он подошел ближе, я удивилась: это было обыкновенное лицо обыкновенного мужчины. Если бы он поднялся ко мне наверх в гражданской одежде, я бы отнеслась к нему, как к любому клиенту. От взгляда эсэсовца я почувствовала прикосновение смерти, и тут же включилась моя защитная система. Я впилась в его глаза без страха. И он отвел взор.
— Сидеть, — сказал мужчина по-польски, — мы сидеть…
— Можем говорить по-немецки, — предложила я.
Наши взгляды вновь встретились. Не отводя глаз, я стала раздеваться. Сбросила туфли (сразу пожалев об этом, потому что стала ниже ростом), медленно сняла чулки, затем платье, белье. Я стояла перед ним голая. Одним движением распустив волосы, старалась ни на минуту не потерять этот взгляд. С бесшабашным интересом я следила за его лицом.
— Вы не будете раздеваться? — спросила я.
— Может, выпьем шампанского? — вопросом на вопрос ответил Смеющийся Отто. И это было подтверждением того, что он боялся меня.
— Я не пью, — холодно отказалась я.
Он раздевался в темноте. Слабый свет с улицы высвечивал его силуэт. Вскоре мужчина стоял рядом со мной, худой и напряженный. Если бы он пришел с улицы, просто так, может, я выдала бы ему обычный «короткий номер». Но эсэсовский мундир висел здесь же на стуле. Я ненавидела его каждой частичкой своего тела и старалась победить в этом бою. Мне это удалось. Мой партнер выдохся, сделался немощным. Я чувствовала, как он старается взять себя в руки, как борется с собой, но не торопилась ему помочь. Длилось это достаточно долго, наконец он встал. Оделся и вышел, не сказав ни слова. Я осталась одна. И от испуга чуть не расплакалась. Ведь за такое оскорбление он мог сделать со мной все, что угодно: отправить на плац или просто выстрелить в упор в голову. А вдруг у меня остались считанные часы? Что будет с папой? Вышлют нас вместе или вместе замучают? Холодная, костлявая рука смерти сжимала меня за шею, и я сдерживалась, чтобы не закричать от страха. Не заходя в зал, отправилась домой.
Отец еще не спал, дремал в кресле.
— Ты так рано вернулась? — Приветливо сказал он.
— А не спрашиваешь откуда? — взорвалась я. — Ты ведь давно не веришь, что я даю уроки. Я девка! Знаешь, как меня называют? Королева борделя!
Он замахал руками, как бы отгоняя меня. В тот момент отец показался таким жалким. «Паяц с козьей бородкой», — подумала я с презрением и закрылась в кухне. В шкафу стояла бутылка с самогоном, я сделала большой глоток. Костлявая рука немного отпустила. Я просидела за столом в кухне несколько часов. А когда вернулась в комнату, папа спал или делал вид, что спит. Я легла в постель, хотя знала, что не усну. В какое-то мгновение мне захотелось забраться, как в детстве, к отцу под плед, ища утешения и помощи. Но теперь он во всем зависел от меня. Вера была права: гетто слишком рано состарило его. Он даже двигался, как одряхлевший старик. Когда я застала его утром в кухне, отец держал хлеб в горсти, отщипывая по кусочку, как это делают нищие.
— Есть же смалец, — напомнила я. — Почему ты не намажешь его на хлеб?
— Тебе не хватит.
— Оставь меня в покое, — резко проговорила я, прислушиваясь к шагам на лестнице: не идут ли за мной, а что еще хуже, за нами… Приближалось время, когда я должна была уходить на работу.
Неуверенно вошла в зал. Все было по-прежнему: дым, музыка, разговоры. Села за столик почти с таким же чувством, как в первый раз. При появлении шефа сердце готово было выскочить из груди: может, они уже здесь… Однако тот с липкой улыбкой шепнул, что меня уже ждут. В одно мгновение что-то со мной произошло, я как бы «выскочила из себя» и стала другой. Я превратилась в сгусток страха, все остальные эмоции и чувства отсутствовали. Это была не я, это была «она». И «она» шла к тому, кто ждал. Увидела его спину, а потом и лицо. Глаза были ласково-покорными, почти как у собаки.
Я уселась на диван и, положив ногу на ногу, сказала:
— Сегодня я выпью шампанского.
Он бросился к столику. Из ведерка со льдом выглядывало обернутое в серебро горлышко бутылки. Выстрелила пробка, и прозрачная жидкость наполнила бокалы на тоненьких ножках.
Взяв в руки бокал, я почувствовала, что в моей жизни начинается новый этап. Было интересно, что нашел во мне этот немец, чем я покорила его сердце. Хотя у таких, как он, не может быть сердца. Наверное, я так и не узнала это до конца. Может быть, на него действовала моя красота. Но красивых девушек в то время хватало, стоило пройти по нашей улице чуть дальше. Правда, я была очень молода. «Чувствуется еще роса на лепестках», — сказал мне один из клиентов. Он тоже был от меня в восторге. А один из гостей, интеллигент (в нашей халабуде это явление редкое), признался как-то: «Твоя красота, как отрава, от нее веет смертью…».
Я испугалась этих слов и самого человека тоже. Не хотела идти с ним наверх, хоть он предлагал больше денег. Заупрямилась — и конец. Я могла себе позволить гораздо больше, чем мои товарки. А с той минуты, когда появился Смеющийся Отто, — уже все. Эсэсовец не смеялся больше в моем присутствии и стал хмурым. Его ревность ко мне проявлялась взрывами злости. Однажды хотел застрелить человека, который осмелился на меня взглянуть. Дошло до того, что меня стали бояться. Даже Вера как-то отдалилась. Когда я заходила к ним, они с женихом сразу замолкали, вели себя неестественно — не в силах была этого изменить и в конце концов перестала у них бывать. Жила в полной изоляции. Когда шла через гетто, обвешанная сумками с едой, все творившееся вокруг казалось декорацией: трупы, дети с выступающими ребрами. Мне даже не приходило в голову с кем-нибудь поделиться. В том мире, в который я пришла, этот жест выглядел бы ненужным. У меня было какое-то неясное предчувствие, что, стоит мне вытащить из сумки хоть один апельсин и подарить его ребенку, все исчезнет, а я окажусь на его месте. Единственной моей заботой было накормить папу. Я стала внимательна и добра к нему. Приносила икру, сардины. Заискивала перед ним, нежно расспрашивала обо всем. Он отвечал мне своим печальным голосом и ничего не брал, кроме хлеба. Я не сердилась на папу, понимая, что это такой же пустой жест, как одарить умирающего с голоду ребенка апельсином. Я только не имела права называть его, как в детстве, «папочка», «папулька». Это было нечестно. И хотя мы оба чувствовали эту фальшь, все же не могли себе в этом отказать. Мне кажется, я уже не помню, какой была до войны, за стеной гетто. Временами промелькнет та девочка с ленточками в косичках, проплывет где-то передо мной в пространстве, еще более призрачная, чем сегодняшняя. Зачем я пользовалась словами той девочки: «папочка», «папулька»? Им не было места в этой жизни. Здесь же совсем другие персонажи — пятидесятилетний старец и высококлассная девка из борделя…