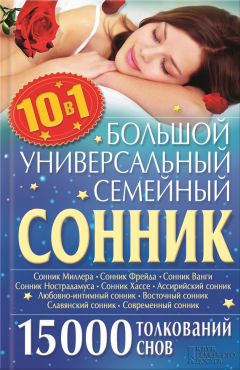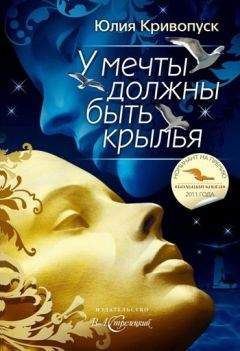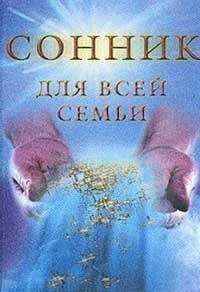Юлия Горноскуль - Карпатский сонник
– …и что дальше с путчистами? – спросила домнишоара Ликуца.
– Здесь они столкнулись с полицейскими, которые открыли огонь. Собственно, на этом Пивной путч и кончился. Гитлера арестовали через несколько дней и посадили в тюрьму, где он писал «Mein Kampf». Потом, при нацистах, это место считалось священным, ведь здесь была пролита кровь демонстрантов. Их имена были выбиты на мемориале там сбоку, рядом – почетный караул, прохожие вскидывали руки, восклицая «Sieg Heil!» – все, как полагается. А те, кто не желал отдавать честь героям, ходили другой дорогой.
– Некрофетишизм, – произнесла домнишоара Ликуца, – типичный для тоталитарного строя.
– Но существование масс невозможно без идеологии, – возразил Морсус. – А в основе любой идеологии лежат мученики. Самый яркий пример этого – христианство.
– Я говорю образно. Мне просто удивительно, как на протяжении истории имена, высеченные на камнях, восхваляются, мараются, забываются и вновь всплывают в круговороте времени… – она задумалась. – Культ павших воинов… Знаешь, что каждое шествие Железной Гвардии начиналось с переклички погибших легионеров? Для фашизма – в Германии, Румынии, Италии – неважно! – характерен традиционализм, а традиционализм богат вариациями на тему крови, земли, культа предков…
– Да, но мне кажется, это особенно характерно для германцев. Сразу вспоминается северное язычество с его иконографией войны и смерти. Которое, кстати, пережило второе рождение во времена национал-социализма.
– Именно. И, надо сказать, немцам особенно шла вся эта атрибутика.
– Согласен. Даже немецкое Krieg – вдумайся, как оно безжалостно звучит, словно оружие бряцает о доспехи, словно сотня мечей разом лязгает о шлемы врагов. Да, это не протяжное английское war, не мягкое украинское виiна, не… как будет «война» по-румынски?
– Război.
– «Рэзбой»? Какое мародерское слово. Нет, «криг» – это «криг». Если kriegen означает по-немецки «добывать», то Krieg – это экспансивный акт, акт добычи.
– Ai dreptata23, – она поцеловала его, больно оцарапав губы о небритую щеку.
Они остановились перед двумя львами на Фельдхернхалле, один из которых смотрел в сторону собора Святого Каэтана, а другой – в сторону королевской резиденции.
– На этом месте юные эсэсовцы присягали на верность фюреру.
Домнишоара Ликуца кивнула, пристально глядя на львов.
– А почему у одного пасть открыта, а у другого – нет?
– И не догадываюсь, – отвечал Морсус, прижимаясь к ней и гладя ее по животу.
– Видишь, лев с закрытой пастью смотрит в сторону церкви, а с открытой – в сторону дворца? Это означает, что спорить можно с монархом, но не с Господом Богом.
– Сама придумала?
– Прочла в путеводителе утром, пока ты спал как… что там говорят немцы… как мурмельтир24!
Утром – это когда Морсус проснулся в ее черных волосах, разметанных по подушкам, и долго ласкался с ней, а потом она поднялась, подошла к окну, раскрыла желтые шторы, сквозь которые тусклый свет дня рассеивался карамельным сиянием, встала на цыпочки, чтобы посмотреть, о чем внизу скандалят турки, и прижалась проколотыми сосками к стеклу, звякнув о него колечками…
7
Ночной автобус выползал из лона Львова сквозь окраину, ощетинившуюся серыми рядами советской застройки. А Анджей, откидывая голову на спинку кресла, зацикленно вспоминал о Еве, вспоминал ее губы в кровавых бороздках и запекшиеся струйки под носом, и невольно признавался себе, что влюбился, ну бывает же такое, приехал во Львов на пару дней по делам и влюбился, а что, ездят же люди в Прагу – попить пива, в Милан – на шопинг, в Мотовун – полакомиться свежими трюфелями, так почему бы не съездить во Львов покрутить амуры? Он пробовал смеяться над собой, но иронией невозможно было вытравить тот судьбоносный момент, когда он увидел прелестную растерянную панночку, которая неловко прижимала одной рукой бумажный пакет к груди, а другой пыталась вытереть под носом кровь, и алые потеки, размазанные по нежному белому запястью в промежутке между грубым рукавом и перчаткой… Между тем, Анджей и представить не мог, какой дивный узор соткала судьба, эта искусная арахнида с сизым брюшком, чтобы их встреча состоялась именно в то промозглое позднеоктябрьское утро.
По плану, он должен был находиться в километре от этого парка, в палаце графов Потоцких. Но утром, во время завтрака, когда Анджей пил знаменитый львовский кофе в одной из кавярен, ему позвонила представительница от Львовской галереи искусств и попросила перенести встречу буквально на полтора часа. Дело в том, что под утро ее отца сразил невыносимый приступ подагры. Ему необходимо было сделать инъекцию колхицина, и женщина побежала по аптекам.
Заказчики обычно сами забирали торты, но клиентка, заказавшая торт в виде венгерского парламента для своей дочки, попросила доставить его на дом. Потому что примерно в то же время она ожидала курьера из DHL, который накануне не смог позвонить ей из-за разрядившегося телефона. А к полудню она уже должна была появиться на работе.
После завтрака Анджей решил немного прогуляться. Он пересек проспект Свободы и добрался до улицы Листопадового Чину, этого львовского Монмартра. Миновал массивное здание Университета с латинским наставлением на фронтоне, которое он автоматически перевел: «Образованные граждане – украшение Отчизны». Миновал атлантов, стерегущих роскошное убранство и змеевидную лестничную галерею в бывшем Шляхетском казино, где когда-то состоятельные господа спорили о политике и породистых лошадях, курили душистые сигары и играли в карты. Миновал серую громаду бывшего Австро-Венгерского банка, куда те самые мужчины вкладывали свои сбережения, пока в их утренних газетах, поданных на подносе рядом с кофе в тонкой фарфоровой чашке, не появилась весть об убийстве эрцгерцога. Он шел, и с одной стороны тянулись нарядные особняки, а с другой шумели увядшей листвой осенние сады, источая запахи костра, истлевшей травы и сырой земли. Недаром немцы, переименовывая Львов на свой лад, дали этой улице название Паркштрассе. Вдали уже блестело треугольное окно мастерской Яна Стыки – геометрическая причуда из красного кирпича, украшенная низкими балконами и гербом гильдии художников. Но этот участок улицы ремонтировали, и тогда Анджей свернул в парк.
Ева уже два дня не покидала своей жаркой кухни, возводя пресловутый парламент, – она очень боялась не успеть. В эти дни она чувствовала себя как лимон – не просто выжатый, а пущенный на цедру. Заказ был завершен вовремя, и с утра она выпила две чашки крепко заваренного кофе – взбодриться перед очередным рабочим днем. Затем она минуты три рылась в шкафу в поисках своих фирменных картонных пакетов, но, как назло, они кончились. Наскоро завернув коробку с тортом в простой бумажный кулек, Ева побежала на улицу Саломеи Крушельницкой и решила срезать путь через парк.
В принципе, Анджей мог оказаться там на двадцать минут раньше нее, если бы его не обслуживали так медленно в кафе. Но официантку, еще не знавшую о своей беременности, мучила накатывающая тошнота, и она то и дело убегала на задний двор покурить или ополоснуть лицо холодной водой.
Так все это – и венгерский орсагхаз25 из лакрицы и марципана, и хроническая подагра пожилого господина, и третья неделя беременности официантки, и ремонт брусчатки к 1 ноября – Дню Листопадового Чина, и слабые сосуды в изящном носике Евы – сошлось в один потрясающий узор, видимый лишь свыше, узор, все нити которого стягивались в одну точку, где звучало «Пшепрашем, пани», и протягивалась рука с платком, и встречались глаза, и сердце нежно замирало в карцере ребер…
8
Осмотрев Одеонсплац, мы отправились на Терезиенвизе, где я намеревалась посетить Старую пинакотеку. Мне безумно хотелось окунуться в ту неземную атмосферу старинных полотен и леденящего бессмертия их творцов, чья энергетика, излучаемая картинами, подчас образует бурную розу ветров. Это была одна из причин, почему после Берлина мы рванули именно в Мюнхен.
– Терпеть не могу эти картинные галереи, такая скукота! Глаз и сил не хватит все осмотреть, да и желания! – противился Морсус.
Он просто не знал, что в любой галерее из тысячи произведений обязательно найдется та жемчужина, к которой тебя потом вновь и вновь будет тянуть вернуться – но делать этого нельзя. Ты увидишь ее издалека и тут же почувствуешь ледяную дрожь, по коже побегут мурашки, будто ты встретился взглядом с самим художником, который смотрит на тебя оттуда… и ты встанешь перед ней – и она будет затягивать тебя, словно в водоворот.
Помнится, в Будапеште меня так заворожило полотно Виктора Мадараса «Оплакивание Ласло Хуньяди». Это была не картина, а черная дыра – в прямом и переносном смысле, поскольку в ней преобладали темные краски. А в нижней части длинным светлым пятном было изображено тело Ласло Хуньяди, покрытое саваном, и сквозь желтоватые складки угадывались очертания лица. Сам гроб был изображен так, что возникало неловкое чувство: либо покойник сейчас вывалится прямо к ногам зрителя, либо он уже наполовину лежит на черных плитах пола. И две женщины под траурными покрывалами, с лицами, искаженными священным ужасом, таились в полумраке у его стоп. Никогда еще художественное произведение не вызывало у меня такого темного страха и желания безотрывно смотреть и впитывать каждый штрих…