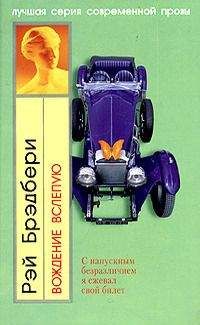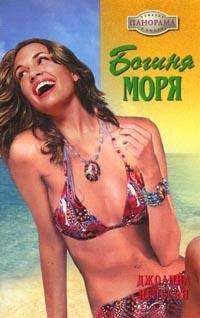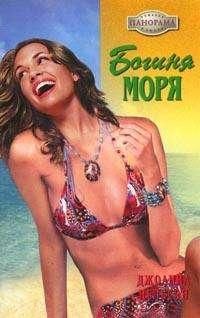Линда Грант - Все еще здесь
— Милая, — сказал отец матери, — сама подумай, как можно начинать новую жизнь на другом конце света с крохотным ребенком на руках? А здесь мои сестры рядом, в случае чего, они всегда помогут. И потом, на что я буду содержать семью? Пять лет в армии, год-два на замене — чтобы найти хорошую работу по специальности, для врача-эмигранта этого маловато. Давай подождем хотя бы несколько месяцев, пока встанут на ноги бесплатные клиники, а там поговорим. Пойми, такая возможность выпадает один раз в жизни — сделать по-настоящему доброе дело, оставить свой след на земле. Послушай, Лотта, мы обязательно уедем в Америку: но мы еще молоды, вся жизнь у нас впереди. Пожить для себя мы еще успеем, а сейчас я хочу сделать то, что должен сделать, чтобы потом, стоя перед Богом, посмотреть Ему в глаза и сказать: «Вот видишь, Господи, я прожил жизнь не зря».
И он открыл клинику на Аппер-Парламент-стрит. С утра до вечера в приемной у него толпилась голытьба, беднейшие из бедных ливерпульских жителей — рахит, конъюнктивит, рак, каверны в легких, — он никому не отказывал в помощи. Он шел к ним домой, в каморки с отсыревшими стенами и уборной на улице, и видел, как они живут — по две семьи в одной комнате, по шестеро детей в одной кровати, — и колол детям пенициллин, а потом шел вместе с родителями к правлению фабрики, где они работали, и говорил: «Как вы можете держать людей в таких условиях? Выделите им новое жилье, и немедленно!»
Он был не одинок — были и другие, подобные ему; но для женщин Ливерпуля шестидесятых годов именно Саул Ребик стал героем, за которого они денно и нощно благодарили Бога. И знаете, почему мой отец стал святым Саулом, покровителем ливерпульских бедняков? Потому что не был католиком. Когда приходишь к своему врачу-католику, он говорит: «Нет, Мэри, извини, но направление я не подпишу. Не возьму такого на свою совесть. Ты справишься, Мэри, вот увидишь, обязательно справишься, ты крепкая, сильная, кому же и рожать, как не тебе. Твоя мать тебе поможет — посмотри-ка на нее, она десятерых вырастила, и все молодцы, работают. Если хочешь, поговори со священником, он тебе то же скажет». — «Если вы не подпишете, я пойду в клинику к доктору Ребику. Он разрешит». — «Доктор Ребик не нашей веры, он не знает Бога истинного». — «Но все говорят, он человек хороший». — «Да, хороший, но заблудший. Это же убийство, неужели ты не понимаешь?» В редакционной заметке местной католической газеты об отце однажды написали: «Доктор Саул Ребик всем сердцем понимает страдания бедняков Ливерпуля, но, к сожалению, не знает страданий Господа нашего на кресте». Хотела бы я знать, если бы Саул и Лотта добрались до Америки, удалось бы маме преодолеть пропасть, разделившую ее с братом? Быть может. Вдали от родителей, чье предательство жгло ей сердце, она и смогла бы примириться с родными: невестка Дора ей нравилась, она всегда была ласкова с девочкой, дарила ей кукол и другие подарки. Но Ливерпуль вцепился в мою мать и не дал ей уйти. Теперь она умерла, а ее незаконченное дело все еще здесь, и разбираться с ним должны мы — ее дети.
— Как ты думаешь, не пора ли мне начать закрашивать седину? — спрашивает меня Мелани после ужина, когда Сэм отправляется в постель, а самаона устанавливает перед телевизором гладильную доску.
— Ты меня спрашиваешь?! Я тебе уже сколько лет твержу, что пора! А почему ты вдруг об этом заговорила?
— Лорен мне сказала кое-что.
— Что-о?
— Когда я ей показывала, где у нас туалет, она сказала: «Знаете, вы могли бы великолепно выглядеть, если бы следили за волосами».
— Да как она смеет?
— Дальше — больше. Она почти силком завела меня в спальню, сказала, что хочет взглянуть на мою косметику. Все пересмотрела, перетрогала и сказала, что эти цвета вышли из моды и вообще мне не идут.
— Вот сука!
— Знаешь, сначала я и сама так подумала, но потом поняла, что она это не со зла. Она действительно хочет помочь. Предложила как-нибудь встретиться и вместе сходить к стилисту.
— А ты?
— Сказала, что подумаю.
— А еще что она тебе наговорила?
— Да больше ничего. Спросила о детях. Я спросила, есть ли у нее дети, — оказалось, нет. Должно быть, фигуру бережет.
— Да, кажется, она из таких. И знаешь что? Насчет волос она совершенно права.
— Как часто ты красишься?
— Каждый месяц.
— Боже мой, это, наверное, стоит целое состояние!
— Да, и отнимает кучу времени. Но если не хочешь, чтобы были видны корни, приходится платить.
— Мне парикмахер как-то раз предложил перекраситься в блондинку, сказал, за светлыми волосами легче ухаживать.
— Недурная мысль.
— Не знаю. Как-то мне трудно представить себя блондинкой.
— Понимаю, но почему бы не попробовать?
— Знаешь, — мечтательно улыбается Мелани, — честно говоря, мне больше хотелось бы попробовать кое-что другое.
— Что?
— Ну, иногда я думаю, как здорово было бы жить где-нибудь на озере Уиндермир, в маленьком домике и с лодкой. Может быть, завести какое-нибудь свое дело — совсем простенькое, чтобы можно было заниматься им, не выходя из дома.
— Какое дело?
— Понятия не имею.
— Сэм не захочет переезжать.
— Да, Сэм ни за что не согласится.
— Можно купить домик и ездить туда на выходные.
— Да, хорошо было бы.
— И что бы ты там делала целыми днями?
— Читала бы. Гуляла. Работала в саду.
— Через три дня ты с ума сойдешь от скуки. Я пробовала.
— Это потому, что ты постоянно чем-то недовольна. А я — нет. — Хочешь сказать, тебя все в твоей жизни устраивает?
— В общем, да.
— А почему же ты хочешь стать блондинкой?
— Это не я хочу, а мой парикмахер.
Знаете, чем она занимается, кроме домашнего хозяйства и работы в клинике планирования семьи? Она член «Шевра Каддиша», одна из тех женщин, что добровольно исполняют ритуал тагара — обмывают и одевают умерших, готовя их к погребению. «Зачем ты это делаешь?» — спрашивают ее дети. И она отвечает: «Потому что это мицва». Доброе дело. Не ради выгоды, не ради благодарности — просто потому, что так надо. Это Мелани обернула мою мать льняным покрывалом и вложила ей в руку горсть израильской земли.
Однажды один мужчина ушел от меня к другой. «Что он в ней нашел?» — изумлялась я. Он твердил что-то о спокойствии, безмятежности, довольстве жизнью, и, в конце концов, я поняла, что она попросту глупа — это-то его и привлекло. Мелани тоже можно назвать спокойной и безмятежной, но дурой не назовешь, хотя, пожалуй, у постороннего может создаться такое впечатление. Она никогда не спорит, не перебивает, не сыплет аргументами, как мы с Сэмом, — но не от недомыслия. Она просто точно знает, как надо. Ответы на вопросы, о которых я без устали размышляю, ей известны от рождения: ей не нужно копаться в книгах или обращаться к раввинам, чтобы понять разницу между добром и злом. Порой это восхищает, а порой раздражает — например, когда она начинает читать мне проповеди о прелюбодеянии.