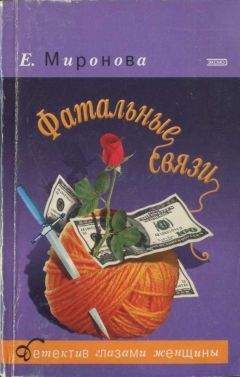Шарлотта Мендельсон - Почти англичане
По крайней мере, через восемь ночей она увидит Марину. С ней ведь все хорошо?
Восемь ночей. Семь. Она обрывает себя.
– Это нормально, – говорит Гай.
Вечер вторника, они сидят в его спальне. Он заверил, что пока мусорная корзина стоит в коридоре, никто, даже мистер Стеннинг, сюда не войдет.
– Но так делать запрещено, – возражает Марина. – Нельзя закрывать дверь, когда ты, ну, наедине с девочкой. Все это знают. Такое правило.
– Не для меня, детка. Ну так что? В понедельник вечером? Во вторник? Могу обеспечить по крайней мере час. Или два. Нам может и больше потребоваться. Можно и на всю ночь.
– Это безумие.
– Все так делают.
– Но разве…
– Это же День основателя, дурочка. Учителя в основном пьяные. Родители тоже.
– Только не мои.
– Нечего обижаться. Все чуток выпивают.
– Я, – с достоинством говорит Марина, – никогда не видела никого из членов моей семьи пьяным.
– Отлично, – говорит Гай. – Но остальные будут. Так что мы потихоньку смоемся, и я сорву твой бутон.
Марина теперь спит не больше пяти часов в сутки, укрепляет силы «Про-плюсом», который в Илингской школе считается чуть ли не героином, а также ежевечерне поглощает яблоки, изюм и сухие мюсли. Она себя ненавидит. Что-то внутри ее тикает, как в крокодиле из «Питера Пена».
– Гай, – говорит она, слегка морщась, когда его рука заползает к ней в трусики, – твои родители будут на празднике?
– Простите, – говорит Лора, согнувшись в Жужиной спальне над телефоном. – Я… он не мог бы… я…
– Это Лора? – спрашивает Сьюз.
– Я… да. Как он? То есть Петер.
– Я знаю Петера, – зачем-то сообщает она. – С ним все нормально.
– О, хорошо! Я, понимаете, мы не… я подумала… Простите, все-таки нормально или так себе?
– Нормально.
– Но… О'кей. О'кей. Значит…
– Можете с ним поговорить. Он тут рядом стоит.
– Что? Рядом? Но…
– Лора?
– Да! Это я. Где, как…
– Я думал, ты на мне крест поставила.
– Я?
– Знаешь что? Приходи.
– Но…
– На лодку. Завтра. Пожалуйста. Приходи.
30
Во время службы в капелле, несмотря на неудобные контактные линзы, Марина принимает два важных решения. Во-первых, если на праздничной неделе ей удастся отразить Гаевы поползновения, то в каникулы она позволит ему сделать все что угодно. Нужно сказать спасибо, что хоть один человек согласен лишить ее девственности. Предыдущее поколение, прочитала она в одной сексуальной статье в «Харперс энд куин», теряло невинность гораздо раньше – на охотничьих балах.
Во-вторых, она проведет расследование. Пожилая родня – по крайней мере, ее родня – всегда чем-нибудь недовольна, и если какое-то недоразумение мешает Марине видеться с Вайни, этому нужно положить конец. Разузнать бы причину, а дальше все образуется; она даже сможет сказать маме, что будет встречаться с Гаем. Наиболее вероятное, хотя и наименее романтичное объяснение состоит в том, что Рози перепутала мистера Вайни с кем-то другим. Такое уже бывало. Или она чересчур опекает внучку. А если во время войны и случилась какая-то любовная история, то не пора ли о ней забыть? Возможно, у Гая есть вдовый дедушка: он мог бы познакомиться с Ильди и найти свою любовь.
Правда, есть одна сложность: ей никто ничего не рассказывает; это нелепо, до чего мало Марина знает о семье. Она даже не помнит, из какого города приехала Рози, а от самых невинных вопросов – о родине, о фабрике их отца (или что у него было – пасека?), о родителях и сестрах – бабушки немедленно начинают плакать, будто протекший кран. Впрочем, недавно ее посетила блестящая мысль: если мама привезет на День основателя дневники или, скажем, семейные документы, Марина могла бы показать их мистеру Вайни. Будет неловко, но это можно перетерпеть; мистер Вайни знает, что искать, а когда найдет, два враждующих дома наконец-то объединятся. Почему ей раньше не пришло это в голову?
Она станет счастлива и забудет о возвращении в Илинг. Рози все равно не позволит, а если и позволит, Марина сгорит от стыда. Нельзя никому говорить, что она скучает по дому: у мамы и так от нее сплошные проблемы – не довести бы ее до могилы. Марина чуть выпрямляет спину, отчасти чтобы пояс для истязаний не так давил. Страдание полезно, но она еще слишком слаба.
Очевидно, придется сказать семье, что она историк. Кембридж переоценен: Марина выбрала другое будущее. Ее родные любят знаменитостей; неужели они не придут в восторг, когда познакомятся с мистером Вайни, ее наставником? К тому же (Марина решила это внезапно, посреди: «О, Иисус, я обещал») она полностью исцелится от Саймона Флауэрса. Она вцепляется в стул и запрещает себе искать его глазами. Мистер Вайни был прав: приходящие ученики – совсем не то. Теперь, когда она бросила медицину, а то и Кембридж, что у них может быть общего? Ничего.
Однако ей не везет. Какого бы бога она в настоящий момент ни боялась, он к ней недобр; возможно, Марина поставила не на того. Когда она медленно выходит из капеллы, чувствуя себя так, будто забыла сердце на скамье шестиклассников, на плечо ей ложится рука.
Дверь в каюту «Вивьен» открыта, как Сьюз и обещала. Было бы легче и не так страшно устроить встречу в теории, по телефону. Вот и с жизнью так же: в детстве можно было все выходные мечтать о будущем – муж, дом, собака, сад, дети, спешащие из соседней школы к любимой семье, – нисколько не соотнося эти планы с реальностью. Неужели все женщины, думает Лора, проводят жизнь, пытаясь примириться с действительностью? Или ей просто не повезло?
На диване сидит девица: нордический тип, загар, сексуальная самоуверенность – на таких всегда западают мужчины. Это, конечно, Сьюз.
– О, – говорит Лора. – А.
В руке у Сьюз лениво тлеет сигарета. Лора опускает взгляд на свои пальцы-сосиски. Она дрожит.
– Садитесь, пожалуйста, – говорит Сьюз. Лора садится.
Проходит время. Вонь от канализации и гниющей древесины хуже, чем ей запомнилось с прошлого раза; к запаху карри и курительных палочек примешиваются богатые аммиачные тона. Утиное убежище пропало, теперь на полу расстелено кухонное полотенце, на котором сидит и что-то грызет полосатый кот. Сьюз листает журнал – не уютное «Домоводство», а какой-то немецкий модный глянец. Лодка скрипит, колышется и истекает водой, как тающая льдина. Лора с дурацкой улыбкой изображает непринужденность.
– Ты ведь Марина Фаркаш?
Вблизи Саймон Флауэрс красив: так должны выглядеть (но не выглядят) шахматные гроссмейстеры или концертирующие пианисты. Саймон Флауэрс, здесь и сейчас, перед ней, на холодном каменном крыльце – улыбается.
Марина ослеплена. У нее пересохло во рту; она выдыхает, раз, другой, по-овечьи резко. Слабо пахнет фимиамом или камедью. Из чего сделана его кожа – из алебастра или простого фарфора? Сейчас он предложит ей руку и сердце. Марина хочет поскорей оказаться за пределами этого мига, чтобы его оценить. Быть внутри выше ее сил.