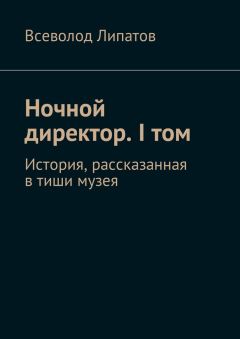Даниэль Буланже - Клеманс и Огюст: Истинно французская история любви
— Истина слепа, — сказал я, — вот почему мы закрываем глаза, когда сталкиваемся с ней.
Александр Мандален продолжал говорить, не слушая меня, потому что он самому себе вновь и вновь задавал вопрос, где же истина.
— И тогда весь мир словно пошатнулся и рухнул для меня. Обманщик, ветреник, человек непостоянный, ненадежный и недостойный, человек, которого я запечатлел в мраморе и возвел на пьедестал, теперь был повержен в прах! Статуя Филеаса валялась на земле, разбитая на мелкие куски! Но, повинуясь голосу моей природной мягкости, вернее, мягкотелости, я принялся сам задавать себе вопросы, пытаясь спасти остатки добрых воспоминаний о моем кумире. Может ли смерть явиться за своей очередной жертвой позже на три дня и представить в свое оправдание какое-то алиби? Быть может, кто-то на ней решил сэкономить? Или она тоже захотела «похудеть», «избавиться от лишнего жира»? Какой дьявол вздумал экономить на истории? Какой коварный демон вздумал заставить эту строгую даму худеть?
— Александр, все очень просто, — сказал я, — у дома твоего короля жесткокрылых было два выхода, а расхождение в датах свидетельствует лишь о том, что на течение времени там не обращали особого внимания и оно текло там то туда, то обратно, подчиняясь дуновению сквозняка.
— Увы, я слишком поздно это понял, и зло уже свершилось, — тяжко вздохнул Мандален. — Некоторые люди умирают, когда обнаруживают, что их мечты заляпаны отвратительной грязью.
— И ты опрометью бросился ко мне сюда, чтобы сказать мне все это? Я вижу, ты задохнулся от быстрого бега…
— Знаешь, я наконец-то нашел его могилу и надгробный камень над ней, там, на кладбище в Булансе. Мне было так стыдно… Но пришел я не из-за этого… Видишь ли, на свои сбережения я купил себе место на кладбище в Булансе и теперь сам разношу приглашения на очень строгую и скромную церемонию похорон; на этих приглашениях нет ни изображений пышных букетов, ни корон, так что и на церемонии все будет просто и буднично. Все дело в том, что именно в Булансе мои мечты превратились в дым, в пепел, в прах и развеялись по ветру. Так вот, я хочу исправить ошибку и потому желаю, чтобы меня похоронили именно там, в том месте, ставшем для меня роковым.
Александр Мандален вытащил из кармана стопочку приглашений, перетянутую резинкой. Он стянул резинку и долго мусолил карточки, слюнявя большой палец, чтобы они отделялись одна от другой. Делал он это для того, чтобы найти в стопке ту, что предназначалась мне. Наконец он ее нашел. В самом центре я прочел свое имя, выписанное крупными, четкими, безупречно округлыми буквами.
— И когда же тебя будут хоронить? — поинтересовался я. — Мне бы не хотелось пропустить это событие и тем самым тебя обидеть.
— Через две недели, в субботу, в пять часов вечера. Да там все написано.
— Да, точно, прости, я не разглядел.
— Надеюсь, народу соберется немало. Ведь в субботу почти никто не работает, а совершить прогулку в Буланс весьма приятно.
— Ну что же, Александр, я желаю тебе, чтобы за две последние недели твоей жизни ты хорошенько повеселился.
— Да нет, особого веселья не будет, ведь в моем распоряжении не все две недели, потому что еще придется оставить время на вскрытие трупа, которое произведут на месте…
Я предложил Александру выпить на прощание стаканчик вина, и он согласился. Он принял из моих рук рюмку с божественным напитком и благоговейно выпил. Ради такого случая я откупорил старую, запыленную бутылку коллекционного вина, оплетенную толстыми кожаными ремешками, которую Клеманс когда-то выбрала для Пенни Честер и за которой она даже отправилась в специальный магазин фирмы, торговавшей портвейном и носившей громкое название «Дом Портвейна».
Перед глазами у меня возникла какая-то темная пелена, и течение мысли резко и грубо прервал вновь вставший передо мной вопрос: «Почему, ну почему я набросился на нее, почему я ее ударил и нанес ей рану?» О, разумеется, я этого не хотел! У меня и в мыслях не было ничего подобного! Но какой же черт меня все-таки дернул? Неужто на такой шаг меня толкнуло мое тщеславие, мое честолюбие, задетое тем, что она у меня на глазах рвала мой дневник? Тоже мне драгоценное произведение, бог мой! Я что, писатель? Да ни в малейшей мере я не являюсь писателем и не считаю себя таковым! Так почему я повел себя как писатель, как обидчивый гордец, как повредившийся рассудком чудак, крайне болезненно воспринимающий все, что касается его творений, и воображающий, что является владельцем уникального, единственного в своем роде драгоценного кольца, превосходящего все прочие безделушки в литературной сокровищнице, где немало подделок, просто ничего не стоящей бижутерии? Я ощутил острую боль, словно меня пронзило копье… Да что я говорю? Не одно копье, а десятки… сотни! То были те самые копья, что торжественно взмывали вверх и скрещивались у нас над головами в дни празднеств, когда Клеманс шествовала рядом со мной к величественной постели, где на меня должно было излиться «Милосердие Августа». И вот внезапно все эти копья, являвшиеся атрибутами торжественных церемоний, опустились остриями вниз, чтобы пригвоздить меня к земле. Каждое из них исполняло свою роль в этом процессе, безо всякого недоброжелательства и безо всякой злости ко мне лично, но с тем холодным безучастием, с которым действует хирургический скальпель, и с тем же бездушием, что проявляет ко мне домовладелец, с которым я теперь ежедневно сталкиваюсь на лестнице, перед самой дверью.
— Вы почему-то больше не носите галстук, господин Авринкур. Как удобно! Должно быть, вы чувствуете себя так легко и непринужденно! Вероятно, на вас очень сильно повлияла ваша бродяжка-цыганка. О, не сердитесь на меня за то, что я ее так называю, в моих устах эти слова звучат как похвала. Но что-то я ее давно не видел… Она что же, отправилась путешествовать? Одна, без вас?
— Да, — ответил я, отводя глаза и смотря как на незнакомца на свое собственное отражение в бесцветном тусклом стекле. Я наблюдал со стороны, как изворачиваюсь и вру, выдумывая на ходу какие-то небылицы.
…да, она уехала, потому что пытается не допустить ни единой ошибки в описании мест, в которых развиваются события выдуманных ею историй. Вот она и ездит, чтобы увидеть все своими глазами, чтобы уточнить детали. Принято думать, что писатель все выдумывает, а на деле оказывается, что настоящий писатель ничего не выдумывает.
— Это очевидно, господин Авринкур. Да, так оно и есть. Если бы я кому-нибудь рассказал, что видел, как госпожа Стилтон в одной ночной рубашке бегает по ночам по улице и с увлечением добавляет скабрезные надписи к столь же скабрезным рисункам на стенах домов напротив, что она при этом весьма грациозно изгибается всем телом, то меня бы, несомненно, сочли за сумасшедшего. Но что же я здесь выдумал?