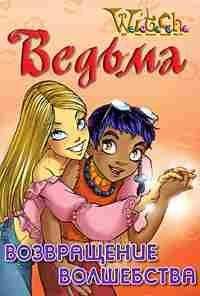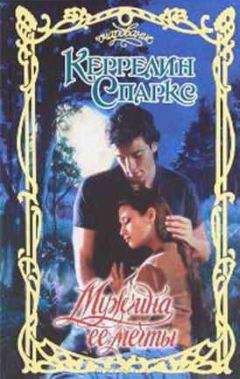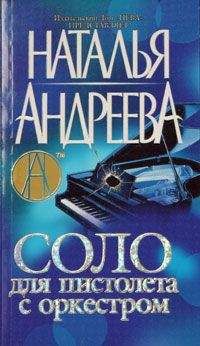Мариса де лос Сантос - Когда приходит любовь
Короче, я позвонила ей, потому что она была нужна мне. Я хотела, чтобы она уверила меня, что я не виновата в смерти Мартина. Еще я хотела, чтобы она сказала мне, что не я явилась причиной гибели Мартина, отказавшись от поездки в Лондон и заявив, что не люблю его, и это не мой голос, звучащий в его голове, отвлек его на какой-то лондонской улице. Я хотела, чтобы она сказала мне, что думать так глупо. Потому что вскоре после того, как я узнала о смерти Мартина, на меня навалилось чувство вины.
И она помогла мне. Она меня успокоила. И сделала это с таким терпением, заботой и добротой, что я впервые поняла, почему она так несется к телефону. Она была матерью четверых детей. Мне понадобился тридцать один год, чтобы это понять. Стыд и срам.
Но второй разговор, о котором я собралась рассказать, состоялся позже, через пару дней после похорон Мартина. Тео вернулся домой в Бруклин, и я чувствовала, что Клэр по нему скучает, видела это тоскливое выражение на ее лице, даже когда она мне улыбалась, что она делала часто, храбрая девочка.
Не могу сказать, что я тоже не чувствовала себя слегка потерянной. Ведь, как поется в школьной песенке, «нужно три ноги для треножника, чтобы он стоял; и нужно три колеса, чтобы получился трехколесный велосипед». Три — магическое число, особенно если третий — Тео.
Когда он уехал, а мы стояли и смотрели, как его машина скрывается за поворотом, я ждала, когда паника охватит меня своей ледяной рукой. И знаете, что странно? Ничего не произошло. Верно, я нервничала. Без Мартина и Вивианы будет нелегко, и я вовсе не была уверена, что справлюсь. Но когда я смотрела, как она стоит, сунув руки в карманы, слегка запрокинув голову и прищурив глаза от зимнего солнца, я поняла, что она твердо стоит на земле и что мы справимся. И мы бы обязательно справились, если бы не второй телефонный разговор. На этот раз мама сама позвонила мне, и этот звонок был той соломинкой, которая переломила хребет верблюду.
Проще говоря, умерла миссис Голдберг.
Она «сдалась Альцгеймеру», как написала в некрологе одна газетенка, как будто она могла что-то сделать, но не сделала по душевной слабости. Она умерла в частной лечебнице, которая, какой бы дорогой она ни была, не могла заменить ей дом. Ведь она лучше других знала, что такое настоящий дом.
— Она сейчас в прекрасном месте, детка, — успокаивала меня мама.
— Давай без банальностей, мама, пожалуйста. Она терпеть не могла банальности, — сказала я с горечью.
Последовало молчание, и, не выдержав, я разрыдалась.
А мама сказала:
— Я только имела в виду, что теперь ей хорошо. Ты так тяжело реагируешь. — Похоже, она растерялась.
Сегодня все, вплоть до бабушек, говоря о поведении или той или иной реакции, употребляют слово «неуместный». Но моя мама использовала это слово всегда. И если для большинства оно служит подтверждением интеллектуальности, Элеонор Кэмпбелл Браун слово «неуместный» всегда использовала для описания поведения или эмоций, которые «не соответствуют моменту».
Итак, она находит мою реакцию «неуместной», противоречащей правилам, и я уверена, что она прикусила язык, чтобы не произнести этого слова. Действительно, новость подействовала на меня очень сильно. Я любила миссис Голдберг. Но, рыдая по ней, я одновременно рыдала по Мартину (чего я до сих пор не делала, ни единой слезинки не уронила), по Клэр, по Вивиане и самой себе. Этот плач мог бы продолжаться до бесконечности, если бы я не заметила белое лицо Клэр. Она стояла в дверях моей спальни, держась за притолоку, как будто это мачта попавшего в шторм корабля, и с ужасом смотрела на меня.
— Все в порядке, солнышко, — выдохнула я, подавив рыдания. — Это не Тео. Ты ее не знаешь. Все в порядке.
Она лишь кивнула, но я увидела, как страх уступил место обеспокоенности, и она опустилась на пол, чтобы как верный друг побыть со мной.
— Корнелия, я еще должна кое-что тебе сообщить, — сказала мама.
О Господи, хватит, не надо больше ничего.
— Что? — спросила я.
— Руфь сказала, что ее мать упомянула тебя в завещании. — Маме было явно неловко об этом говорить. «Ого, — подумала я, — миссис Голдберг повела себя неуместно, даже уйдя в могилу».
— Она оставила мне жемчужное ожерелье, — попробовала я догадаться.
— Некоторым образом. Она оставила тебе дом со всей мебелью и остальными вещами.
Я потеряла дар речи.
— Она просила, чтобы ты разобрала все, что ей принадлежало, и отдала ее детям то, что, по твоему мнению, может им понадобиться. Остальное твое.
Я все еще не могла вымолвить ни слова.
— Руфь прореагировала нормально. Похоже, кроме дома, у миссис Голдберг было что оставить детям. В сравнении с ее состоянием стоимость дома незначительна. И все-таки как-то неловко, верно?
Как ни напыщенно это прозвучало, я понимала, что неодобрение мамы проистекает из ее заботы о детях миссис Голдберг. То, что мать рискнула обидеть своих детей, как, по мнению моей матери, сделала миссис Голдберг, ей казалось немыслимым.
— Руфь и Берн не станут обижаться. Они знают, что она их любила, — сказала я, и это было правдой. Если миссис Голдберг вас любит, вы об этом знаете.
— Похороны послезавтра. Я сказала Руфи, что, возможно, ты не сможешь приехать из-за Клэр и всего остального. Но когда мать Клэр вернется из поездки, тебе придется сюда приехать и разобрать вещи миссис Голдберг.
— Ладно, — тупо сказала я. — Спасибо, что позвонила, мама.
Я повесила трубку, и Клэр в одно мгновение вскочила на ноги и уселась рядом со мной на диване. Я услышала голос миссис Голдберг, произносящий «дитя моего сердца». Это случилось в последний раз, когда мы были в ее доме. Я не смогла сдержаться и снова заплакала. Плакала и рассказывала Клэр, как когда-то рассказывала ее отцу в этой же самой комнате, о миссис Голдберг — кто она такая и кем она была для меня.
Хотя я иногда и склонна к излишнему драматизму и моя мать находит, что я чрезмерно эмоциональна, но только не сейчас. Я сорвалась с обрыва и упала на скалистую, чужую территорию, туда, где за утешением мне приходится обращаться к одиннадцатилетней девочке, которая так много потеряла сама, что от одного подсчета ее несчастий можно заболеть. Я не собиралась ей плакаться, но она кругами водила ладошкой между моими лопатками, а мне именно такое утешение требовалось, и я ничего не могла с собой поделать.
Когда зазвонил телефон, Клэр шепнула:
— Я сейчас вернусь, — и пошла в кухню, чтобы снять трубку. Я слышала, как она разговаривает, затем она принесла трубку мне.
— Это Тео.
— Тео, — сказала я упавшим голосом. Я слышала шум, какие-то голоса. Наверное, он звонил из больницы. Я представила себе, как он стоит там в своем хирургическом халате и звонит мне среди хаоса жизни и смерти. Смерть и болезни каждый день. Как, наверное, ему тяжело. Хороший знак — я уже начинаю думать о другом человеке. Признак того, что я не свалюсь от жалости к себе. Но это я уже потом решила, не в тот момент.