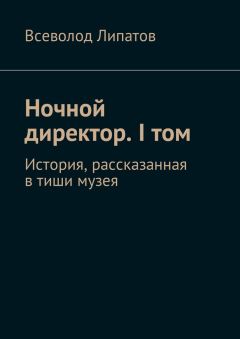Даниэль Буланже - Клеманс и Огюст: Истинно французская история любви
Нас с Клеманс не столько бы поразили слезы, если бы они поползли по глубоким морщинам, прорезавшим трагически худые, изможденные лица, как поразил нас проявленный этими несчастными стоицизм, ибо он, а не их сетования на судьбу оказался важнее всего.
Клеманс вновь открыла сумочку, чтобы заплатить за кофе и настойку.
— Не оскорбляйте меня, — сказал Рошфриз-старший, аккуратно и осторожно отводя руку моей подруги, добропорядочной и всегда готовой помочь ближнему, — здесь я сейчас хозяин, а вы — мои гости. И знайте, где бы мы ни оказались завтра, мы будем играть для вас.
За время нашей беседы сын еще больше состарился. Он с трудом поднялся с банкетки, чтобы таким образом выказать нам почтение и попрощаться с нами, скамейка жалобно заскрипела. День угасал. Нам не хотелось спускаться вниз, напротив, хотелось подняться на самую высокую смотровую площадку. Монмартр на глазах как будто терял свои краски, бледнел, выцветал, белел, седел, старился. Небо, еще озарявшееся последними лучами заходящего солнца, было какого-то странного, желтовато-бежевого оттенка, а внизу у наших ног до самого горизонта, сколько хватал глаз, расстилался Париж, представлявшийся бесконечной свалкой строительного мусора, где сероватые и голубоватые блоки пронзали какие-то ржавые конструкции и редкие позолоченные купола и крыши.
* * *Что было общего между мной и Клеманс? Любовь к одиночеству, объединявшая нас. Мы редко сопровождали Шарля Гранда на всякие светские мероприятия, в которых он непременно желал принимать участие, но не столько ради себя самого, сколько ради того, чтобы слава о самой известной из писательниц, чьи произведения публиковались в его издательстве, гремела еще громче. Я не видел никакой разницы между торжественными приемами в роскошных гостиных и литературных салонах и встречами в кафе, кроме той, что из кафе можно было уйти в любое время, когда тебе захочется. В гостиных и салонах я всегда ощущаю острый привкус сплетен, злословия и недоброжелательства, зато круглые столики в кафе располагают, на мой взгляд, к прямоте и откровенности. Мы с Клеманс, составлявшие настоящую супружескую пару, любили теряться, растворяться, становиться невидимыми в самых забытых Богом и людьми уголках, но нам порой доводилось и блуждать по рынкам под открытым небом, лавировать среди прилавков и балаганов на ярмарках. Портрет Клеманс был бы неполон, если бы я не показал ее в мгновения, когда она чуть ли не утыкалась носом в ящики, где лежали овощи, или заглядывала в корзины с фруктами и ягодами. Я мог бы привести немало примеров встреч с посторонними людьми, когда какое-нибудь замечание незнакомца, обратившегося к Клеманс, вдруг высвечивало в ней то, о чем я прежде не подозревал. Порой я задаюсь вопросом, почему с ней так часто заговаривали незнакомые дети, стремившиеся привлечь к себе ее внимание тем, что тянули ее за подол юбки или платья; я припоминаю, как мягко и с каким терпением она им отвечала.
— Почему ты приставила палец к подбородку и так его и держишь?
— Я думаю.
— Тебе плохо?
или
Мог иметь место и такой разговор:
— Почему ты стащила вишню?
— Я не стащила, а взяла одну попробовать.
— А почему ты захотела ее попробовать?
— Может быть, и ты хочешь?
— Нет, я не люблю вишню, в ней косточки.
Или такой диалог, когда какой-нибудь малыш указывал на меня свободной рукой:
— Скажи, это твой дяденька?
— Почему ты так решил?
— Потому что он несет твою сумку.
А сколько еще цветовых пятен могли бы придать объема и красок тому, что остается всего лишь наброском, черновиком исследовательской работы! Для меня является слабым утешением то, что я говорю себе, будто сегодня вечером или завтра мне достаточно будет открыть этот блокнот, чтобы добавить к своим записям и уже имеющимся рисункам какой-то оттенок, какое-то слово, произнесенное ее низким и нежным голосом, какую-то интонацию, которые могли бы внезапно всплыть в моей памяти из неистощимого источника милосердия Клеманс. Я никогда не задавался вопросом, почему я собираю эти наброски к портрету Клеманс. Я не имел никакого желания их обнародовать, я вовсе не преследовал такой цели. Мне всегда было достаточно того, что я приводил в порядок (не лакировал, отнюдь не лакировал!) произведения других авторов. И вот однажды на рассвете, после ужасной ночи, когда я присутствовал на собственных похоронах и участвовал в похоронном кортеже, причем плелся где-то в самом хвосте, держа корону в руках, я проснулся на краю постели, этой «дневной могилы», и, медленно-медленно повернув голову (время с трудом возвращалось к нормальному ходу и ритму), я увидел, что Клеманс читает мои заметки о ней. Вдруг она разорвала одну страницу, причем разорвала ее на мелкие-мелкие кусочки. Она сидела в нашем вольтеровском кресле, и корзина для бумаг, стоявшая у ее ног, была доверху наполнена изодранными в клочья останками моей души. Я не помню, чтобы когда-нибудь раньше меня охватывал такой безумный гнев! Я вскочил с постели и бросился к ней, вернее, набросился на нее. То ли от толчка, то ли от потрясения, вызванного изумлением, она упала, и я впервые увидел, что она могла быть воплощением страдания и боли. Я хотел помочь ей подняться, но она меня оттолкнула. Я подошел к окну, открыл его, чтобы проветрить комнату, а Клеманс в это время, прихрамывая, направилась в ванную и там заперлась. Я подошел к двери и что-то ей говорил через дверь, просил прощения, умолял мне ответить… Я не услышал ничего, кроме шума льющейся воды. Моя ярость утихла, но я спрашивал себя, на кого же я похож… На дурака, разумеется! Самым умным, самым благоразумным в данной ситуации было натянуть брюки и пойти пройтись, выпить чашечку кофе где-нибудь в кафе, заглянуть в газетные киоски, чтобы узнать новости дня. Несчастий на свете всегда хватает, и быть может, известия о чужих бедах ненадолго утешат меня. Я выжидал, я тянул время, чтобы из нашей квартиры выветрился мерзкий дух моей чудовищной глупости. Я даже отправился на набережную Сены и проделал там несколько гимнастических упражнений, но вид других спортсменов-самоучек, бегавших по кругу с прижатыми к телу локтями, почему-то повлиял на меня дурно, я чего-то устыдился и вернулся в Институт.
Дома я нашел лишь короткую записку от Клеманс, демонстративно брошенную на пол.
Я поеду прогуляться и буду отсутствовать до тех пор, пока синяки, появившиеся у меня в результате падения по твоей вине, не исчезнут. Я не хочу выставлять на твое обозрение опозоренное, обесчещенное тело. Всем сердцем надеюсь на скорую встречу, потому что я все же тебя люблю.