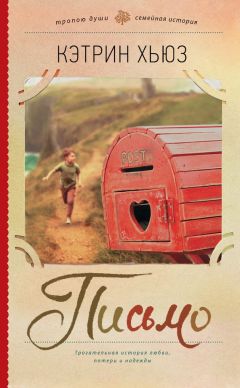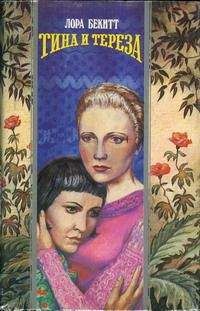Татьяна Корсакова - Ты, я и Париж
— Не стоит, свое барахло можешь оставить себе.
Тина поправила сползающую с плеча сумку. Дядя Вася почти не оставил ей времени на сборы, так что с собой она захватила только самое необходимое: смену одежды, косметику, зубную щетку и кредитную карту. Все это уместилось в холщовой сумке, внушительной и очень удобной.
— Анна Леопольдовна, — она улыбнулась домоправительнице, — вы не проводите меня в мою комнату?
— А разве тут есть что-то твое? — многозначительно фыркнула Амалия.
— Я провожу! — Анна Леопольдовна расправила плечи. — Там уже все готово. Следуйте за мной, Клементина.
«Следуйте за мной» — совсем как пять лет назад. Мир изменился, отец умер, но домоправительница по-прежнему оставалась блюстительницей традиций и этикета.
Кажется, в доме не так давно сделали ремонт, все казалось чужим и незнакомым, даже ее комната. А может, это она сама изменилась? Скорее всего…
Тина бросила сумку на кровать, посмотрела на застывшую на пороге домоправительницу, сказала:
— Анна Леопольдовна, я умираю, так есть хочу.
На лице домоправительницы появилась тень улыбки:
— Конечно, Тина, у Надежды Ефремовны уже готов ужин.
А вот кухня осталась прежней, как и ее хозяйка. Увидев Тину, Надежда Ефремовна выронила половник, с тихим всхлипом повисла у нее на шее.
— Приехала, негодница, а мы уже и не чаяли! — Она чуть отстранилась, сказала с упреком: — А что ж так поздно приехала-то?
— Надежда Ефремовна, девочка устала с дороги и хочет есть. — На помощь Тине пришла Анна Леопольдовна.
— Так сейчас! Что ж, я нашу девочку не покормлю?! — Повариха бросилась к плите, засуетилась, загремела посудой, проворчала, не отрываясь от своих занятий: — А что за одежки-то на тебе, прости господи?
Тина виновато улыбнулась, подтянула сползший чулок, посмотрела на домоправительницу:
— Анна Леопольдовна, я с собой не взяла ничего подходящего из одежды. Надо бы в город съездить.
— Я все приготовила, Клементина, на всякий случай. Амалия с Серафимом утверждали, что вы не прилетите, но мы с Надеждой Ефремовной знали…
— Да, да, знали! — поддержала ее повариха. — Чтобы ты да не прилетела на похороны родного папеньки?! — она всхлипнула, вытерла глаза краем передника. — Не гадюке ж этой крашеной хоронить нашего Якова Романыча!
Тине, которая лететь на похороны отца не собиралась, вдруг стало стыдно. Может быть, в отце было что-то хорошее, если эти чудесные женщины так искренне скорбят о его кончине? Теперь уже неважно, ей этого все равно не узнать. Четыре года отчуждения не прошли даром, но волю отца она исполнит, проводит его в последний путь, и плевать, что подумают остальные…
…Отца хоронили в Москве с почти президентскими почестями. Гроб красного дерева, море цветов, скорбящие знаменитости, торжественная музыка и проникновенные речи. Репортер, прорвавшийся на церемонию, но остановленный бдительными ребятами дяди Васи. У гроба — самые близкие. Безутешная вдова в элегантном черном платье и шляпке с густой вуалью, чтобы скрывать горе от любопытных взглядов. Ее бережно поддерживает под локоток Серафим, непривычно торжественный и безмерно стильный. Рядом Серебряный, за минувшие годы поседевший почти полностью, но все еще молодой и поджарый. Серебряный нервно вертит в руках незажженную сигарету, наверное, очень хочет, но не решается закурить. По правую руку от него дядя Вася с непроницаемым лицом. По левую — сама Тина, в черном брючном костюме, с волосами, стянутыми в строгий пучок, в солнцезащитных очках. За очками удобно прятать свое смятение, а еще наблюдать за остальными.
На гроб с телом отца она старалась не смотреть, знала, что это проявление трусости, но ничего не могла с собой поделать, не чувствовала в себе ни сил, ни морального права. Но по-настоящему ей стало страшно, когда пришла пора прощаться. Сердце разрывали противоречивые чувства: и ненависть, и жалость, и чувство вины пополам с какой-то необъяснимой обреченностью. Четыре года назад Тина вычеркнула этого человека из своей жизни, а три дня назад он ушел из жизни на самом деле, и когда это случилось, ее не было рядом, и все, что между ними произошло, так и осталось неразрешенным. Отец не смог полюбить ее по-настоящему, она не смогла его простить…
— Прощай, папа. — Тина коснулась губами холодной щеки, резко выпрямилась, отошла от гроба.
После похорон были поминки в ресторане. На поминках Тина решила не оставаться: у нее были обязательства только перед отцом, но не перед этими незнакомыми людьми. До ночного рейса на Лондон еще есть время, она успеет съездить в поместье, переодеться и попрощаться с Надеждой Ефремовной. Надо только предупредить дядю Васю и Анну Леопольдовну. Найти их в толпе приглашенных не удалось, и девушка решила, что в крайнем случае можно будет написать прощальную записку или позвонить им уже из Лондона.
Дом встретил ее настороженной тишиной. У Тины вдруг возникло ощущение, что он тоже скорбит по хозяину. Надежды Ефремовны на кухне не оказалось, девочка-горничная сказала, что той весь день нездоровилось, и она ушла домой пораньше. Вот так, попрощаться ни с кем не получилось, видно, не судьба.
До вылета оставалось семь часов, Тина прихватила из бара бутылку виски, удивительно дешевого, непонятно каким чудом затесавшегося в стройные ряды благородных коньяков и изысканных вин. Впрочем, для ее цели виски сгодится как нельзя лучше. Хочется банально напиться, залить едким зельем зарождающуюся где-то в глубине души боль. Она начнет прямо сейчас. Пару бокалов, не больше. Просто чтобы немного прийти в себя. А продолжить можно будет в аэропорту…
Тина взяла бутылку, на кухне нашла лед, поднялась в свою комнату. Виски, даже сильно разбавленный, был ужасный, под стать настроению. Она пристроила бутылку на прикроватной тумбочке, сняла костюм. Все, теперь в ванну…
Ни ванна, ни виски не помогли. Напряжение и душевная боль никуда не делись, волнами тошноты подкатывали к горлу, сжимали в тисках голову. Рукавом халата Тина протерла запотевшее зеркало, с тоской посмотрела на свое отражение. Нет, так не годится, проще выйти на улицу голой, чем с таким ужасным лицом.
На макияж ушло пять минут, доведенными до автоматизма движениями она подвела глаза, наложила пудру, накрасила губы. Все, здравствуй, привычная Тина, та самая, которой чужды сожаления и душевные терзания. Теперь можно выходить в люди.
— …Часы еще не пробили двенадцать, а Золушка уже сбежала! — Дверь в ее комнату была открыта, а на кровати, прямо в обуви, развалился Серафим. На кончик его остроносого ботинка налип сигаретный окурок. Зрелище это — и Серафим, и окурок — было настолько отвратительным, что Тину затошнило.