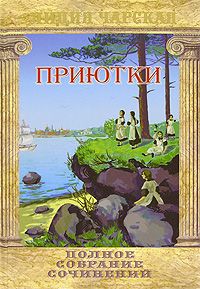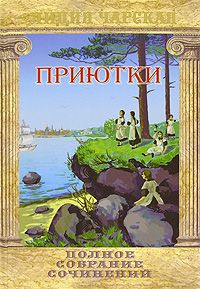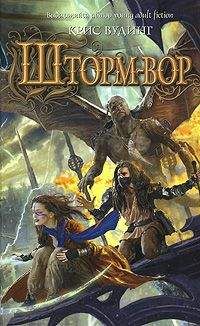Лидия Шевякова - Дуэт
— Значит, ты не согласен с ними? Ты все время молчал.
— Не хотел их расстраивать. Мир гораздо более мерзок, чем они думают. Я решил сбежать отсюда, уехать на Тибет или в Москву.
— В Москву? Ты что, спятил?
— Здесь все фальшиво. В первую очередь их вонючая демократия! — ожесточенно бросил Флор.
— Как это? — оторопел Герман. Возражая Саре, Герман больше дразнил ее, чем действительно порицал американцев, поэтому услышать такое откровение от коренного небожителя было для него неожиданностью.
— Все на словах. Вот, например, фашизм вырос в недрах твоей хваленой демократии, а не с неба свалился. Значит, демократия — как эпилептик. В любой момент может разразиться припадком тирании и деспотизма.
— При чем здесь фашизм?
— При том, что у немцев фашизм развивался в недрах теории биологического превосходства арийской расы, а у нас развивается фашизм на основе экономической теории. Все страны, где нет экономического процветания, считаются в Америке второсортными, в них живут не люди, а придурки, притеснить или даже убить которых не является грехом. Понимаешь?
— Не совсем. — Герману не хотелось шевелить мозгами, он и так перенапрягся с кальвинистами, но его приятель уже завелся.
— Вьетнамцы, например, или негры, или турки — второсортные люди, а японцы — первосортные. Причем сегодняшнее состояние нации берется как абсолютная точка отсчета.
— Как это? — безучастно осведомился Герман.
— Например, мы, американцы, не хотим помнить, что мировая история началась несколько тысячелетий назад, а наша — всего пару сотен лет. Мы не помним, что у индусов не только повсеместная нищета и антисанитария, но и лучшая в мире философско-религиозная система, что они открыли меру гармоничного соотношения души и тела в практике йоги, а что китайцы не только трудолюбивые одноклеточные, способные не покладая рук вкалывать на американских фабриках за копейки, но и создатели бумаги, фарфора, иглотерапии, фантастического метода дыхания и еще не знаю чего. Даже кетчуп, которым мы поливаем что ни попадя, и тот китаезы придумали… Да что там, расизм у нас в крови. Когда была война во Вьетнаме, этих узкоглазых настолько не считали за людей, что не применяли к ним даже слово «убить», а только «вычистить» (wasting), словно они какая-то плесень.
Друзья остановились на светофоре. Прямо перед ними автобус забирал на остановке пассажиров. К передней двери подкатил в инвалидной коляске хорошо одетый пожилой американец в залихватски заломленной ковбойской шляпе. «А этот куда прется, да еще в шляпе», — отстраненно подумал Герман. Вдруг внутри автобуса пришел в действие скрытый механизм, и передние ступеньки разровнялись в платформу, стелющуюся прямо по тротуару. Инвалид без спешки въехал на эту импровизированную площадку, и за ним поднялся бортик, чтобы кресло, даже накренясь, не могло скатиться обратно на мостовую. Медленно, как на грузовом лифте, он начал подниматься вверх. Поравнявшись с полом салона, ковбой въехал внутрь, а площадка за его спиной снова сложилась в ступеньки.
— Нет, что бы ты ни говорил, но свобода этого калеки многого стоит, — ошеломленный увиденным, задумчиво проговорил Герман. — У нас, если ты инвалид — все, жизнь кончилась.
— Ты не понимаешь. У американцев нравственно то, что целесообразно. Если им будет нецелесообразно ухаживать за стариками и немощными, они избавятся от них не моргнув глазом.
— Но не избавляются же! — Герман подумал, что возражать все-таки всегда эффективнее, чем соглашаться.
— Потому что это выгодно. Хорошая старость для нас — это предел всех желаний. С детства ты должен думать только о старости, у нас же система пенсионных фондов. А значит, держаться за свою работу и быть послушным начальству и власти, иначе ты станешь неблагонадежным, не получишь кредита или субсидий и в старости будешь сосать лапу.
Обеспеченная старость — это фетиш, морковка, за которой мы бежим, как ослики, всю жизнь.
Герман покосился на своего нового друга. Только сейчас его осенило: «Все, что делает Флор со своей жизнью, — это протест. Мой приятель не просто повеса и содержат — богатых вдовушек, он ниспровергатель устоев, революционер. Отсюда эта горячность и категоричность, отсюда горечь и желание разрушения системы. Как это может быть? Человек живет в самом замечательном месте на земле и хочет его уничтожить? Значит, все-таки Америка прекрасна не для всех? В любом случае мы с ним похожи. Два строптивых барана с разных концов континента. Нет ли у вас где-нибудь другого глобуса? Только его протест более интеллектуальный, духовный, а мой скорее потребительский, экономический. Даешь хорошую жизнь! И я прекрасно понимаю всех этих америкосов: лучше быть под пятой сильного и богатого и разделять с ним его сытую участь, чем болтаться одному, как гордое дерьмо в проруби. В детстве было лучше примкнуть к дворовой шайке. В юности — вступить в комсомол и т. д. И плевать я хотел на всех этих обиженных вьетнамцев. На обиженных воду возят».
Только в России можно встретить философа в дворницкой. В Америке, если ты дворник, ты можешь и умеешь только мести. Ты просто машина по подметанию улиц, всем довольная, патриотично настроенная.
Герман задыхался в своей посудомоечной среде. И когда он на первом же своем сценическом вечере вместо псевдоцыганских романсов грянул Вагнера, не только персонал, но и публика замерла от изумления, неодобрения и невозможности вместить то, что они слышат. Он прямо чувствовал, как насильно вдувает в их души, как при искусственном дыхании, мощную музыку Вагнера. Нет, не мог он примкнуть к сильному, натянуть на себя с головой одеяло всеобщего благополучия, не мог послушно декларировать ценности большинства. Протест, как напасть какая-то, жил в нем, мучился и мучил своего хозяина и никак не хотел загибаться в одиночестве, а только в компании со своим носителем.
Весной пришел еще один конверт, заляпанный марками.
Мне часто снится сон, что я спешу к родным навстречу. Что кончились забавы глупых перевоплощений, и время возвращенья подошло. Что автобус млечный стоит уж под парами и трубит, как слон встревоженный, скликая галактических повес. Бегу, боюсь их упустить. Душа стремится к ним быстрее тела. И мнится мне, что я могу нагнать ее с налету.
Нет, не как птица, но как лист осенний, спланировать.
Я знаю, что должна это уметь, но в этом маскарадном теле не умею.
И я бегу, сначала играючи и быстро, потом с одышкой и остановками. И страх предательский, что не успею, схватывает сердце тугим кольцом. Средина лета. Вокруг разлит пьянящий запах липы.