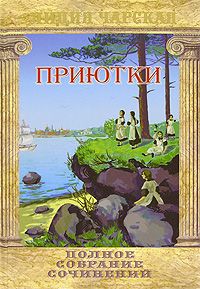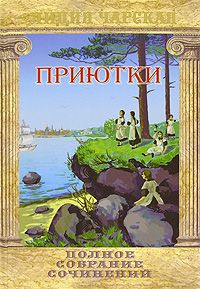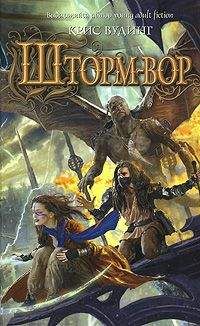Лидия Шевякова - Дуэт
Все тело болело, ныло, распирало и стонало. Наконец крикливый мучитель присосался.
Он жив, она жива. Жизнь продолжается. Но уже совсем другая. А она-то, дурища, гадала, что придется отрезать в новой жизни. Тут не отрезать, а вычленять по живому пришлось. Значит, она разменяла сейчас четвертую, теперь у нее в запасе всего одна осталась.
— Давай назовем его Василием, в честь деда. Я ведь Николай Васильевич, — предложил Николай, гордо и глупо улыбаясь, словно это он таскался девять месяцев враскорячку, а потом выл от боли, корчась в родовых муках, а не она.
«Хоть чертом в ступе!» — зло подумала Анна и уныло улыбнулась в ответ. Главное, все уже позади. Теперь она как все, с ребенком.
Через неделю Анна вернулась домой, постаравшись как можно быстрее отгородиться от сына отрядом нянек во главе с мигом воспрявшей духом Анной Павловной. Первое тепло материнства достигло этого русого айсберга только месяца через три, когда выкупанный и присыпанный тальком Васечка ползал по ее животу и все никак не мог сориентироваться, в какой стороне сладкие материнские груди. Его круглая головка с русым пушком на макушке отчаянно раскачивалась в разные стороны на стебельке шеи. Анна с грустью наблюдала за его беспомощными попытками найти ее лакомый набухший сосок и вдруг подумала, что самое главное чудо это не умничание о том, что ты сможешь воспитать нового человека, а когда ты лежишь на диване и по тебе ползают твои дети. Анна вспомнила кошку Дусю, которая блаженно млела, когда по ней бесцеремонно елозили котята, и с нежностью слегка подула в лицо своему карапузу. Васечка поймал нежданный привет любви, замер в изумлении и деловито пополз на этот едва различимый призыв.
Комические старухи и трагические молодухи
Родители Флора оказались церемонными, доброжелательными, старомодно нарядными пожилыми дамой и господином — законсервированными осколками айсберга по имени царская Россия. Евгений Георгиевич — сухопарый, живой и ироничный. Полина Севастьяновна — сухонькая, тонкая, прозрачная, похожая на старинную хрупкую фарфоровую чашку.
Старики жили с семьей средней дочери — мужем и тремя ее детьми — в небольшом двухэтажном особнячке за оградой, увитой чайными розами. Парадное крыльцо этого пряничного домика выходило на веселую солнечную лужайку с тремя фруктовыми деревьями: мандариновым, апельсиновым и айвовым. Среди ветвей, полных плодов и листьев, внимание Германа привлекло едва уловимое для глаз трепетание.
— Это колибри, — радостно подсказала хозяйка.
«Райский сад в миниатюре», — подумал растроганный Герман.
Войдя в дом, Герман обнаружил там много милых сердцу вещей, таких знакомых. Откуда? Конечно же, что-то подобное стояло в каморке у его любимого Модеста Поликарповича. Фотографии царской семьи вперемежку со снимками собственной родни. Так интимно. Он словно попал в отчий дом своей мечты.
В тот раз дочь с мужем и детьми уехали на озеро Тахо, и старые хозяева были одни.
— Обычно престарелые американцы живут отдельно, но мы придерживаемся старорусских обычаев. Пока нас дети еще не выкинули на комфортабельную свалку со всеми удобствами, а как с этим сейчас в России? — добродушно поинтересовался Евгений Георгиевич.
— Присаживайтесь к столу. У меня все готово, — предложила Полина Севастьяновна.
Все подошли к столу и выжидательно обратились к большой иконе Божьей Матери, словно надеялись, что она сойдет и присоединится к трапезе. Хозяин тихо, но внятно прочитал молитву, а все домочадцы, включая Флора, смиренно вторили ему. Герман вырос среди здоровых атеистов и считал, что религия — бабское, даже старушечье дело, и видеть сосредоточенно молящегося мужчину было ему в диковинку. За обедом гостя много и обстоятельно расспрашивали о России и Москве, причем задавали такие вопросы, на которые Герман не мог ответить, и не потому, что не знал, а просто не задумывался о таких вещах. Например, о преследовании православных или о позиции государства в вопросах веры. Расспрашивали о старых московских улицах, о каких-то неведомых ему церквях. Вера, религия казались ему чем-то допотопным, и было дико видеть, что где-то на краю америкосского света русские люди хранят ей верность, дышат и охраняются ею. Для Германа они были чуднее инопланетян. Разговор перешел на недавнее обретение мощей местного святителя Иоанна, который тридцать лет пролежал в специальной гробнице в подполе собора.
— Когда его железный саркофаг вынули из подвала и разрезали, оказалось, что изнутри он весь проржавел и гроб деревянный почти в труху истлел. А батюшка лежал целехонький. Его за руки и за ноги из гроба вынимали, все сухожилия были эластичные, только глаза пропали и самый кончик носа, а ведь прошло тридцать лет, — пояснил Евгений Георгиевич непонимающему, о чем идет речь, Гере.
— Мы всегда знали, что он нетленен, — подтвердила хозяйка, — сколько раз городская санитарная служба приходила проверять температуру, и никогда не было никакого гниения.
Евгений Георгиевич, видя озадаченное выражение Гериного лица, решил начать с самого начала:
— Мы родились в Шанхае. Наши родители отступили туда с белой армией, после октябрьского переворота, хотя сами они были петербуржцы. Когда к нам приехал батюшка отец Иоанн в 1934 году, мне уже было четырнадцать, а Маргарите — десять лет. С появлением батюшки вся наша жизнь преобразилась. Он собрал вокруг себя несчастных беженцев, построил храм, открыл приют, больницу. Он помогал всем, часто за мешок риса выкупал у родителей новорожденных китаянок, которых те зачастую выкидывали в канавы, где их съедали свиньи.
— Выкидывали в канавы? — изумился Герман.
— Да, китайцы очень жесткий народ. У них и род, и имущество переходят от сына к сыну, и когда дочек накапливалось в семье слишком много, от них предпочитали избавляться. Так отец Иоанн спасал этих детей, воспитывал в православии вместе с русскими, и многие из них потом последовали за нами на острова и в Америку.
— Он всех их усыновлял и давал фамилию Романовых, — улыбнулся Флор.
— А как было страшно, когда в город пришли коммунисты! Мы думали, все погибнем, но батюшка нас вымолил, укрыл своим оморфором от лютой смерти. Китайцы разрешили нам бежать на Филиппины. На Тубабао мы жили сначала в шалашах. Этот остров — совершенно гиблое место, он стоит на пути сезонных тайфунов. Но пока мы там были, все четыре года смерчей не было ни разу, может, только однажды, и то батюшка отвел его в сторону.
— Как отвел? — снова не понял Герман.
— Молитвой, — просто ответил Евгений Георгиевич и продолжал как ни в чем не бывало: — А когда почти все уже переселились в Америку, налетел страшный смерч и полностью уничтожил лагерь, разнес все в щепки. В 68-м году наш батюшка умер, и в течение четырех дней Совет инспекторов Сан-Франциско внес поправки в городской закон, чтобы разрешить захоронение иерархов в их соборах, поэтому мы смогли оставить батюшку в саркофаге в усыпальнице под храмом, который он построил.