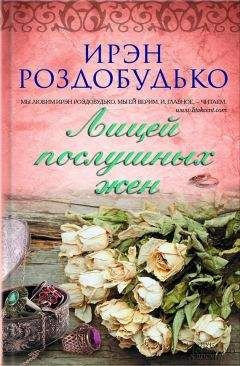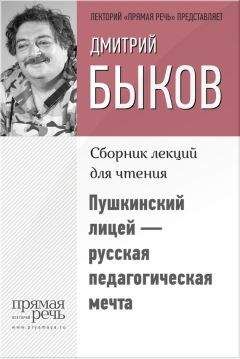Игры мажоров. "Сотый" лицей (СИ) - Ареева Дина
Я не верю, но ничего не говорю. Мама меня утешает, пусть думает, что я поверила.
Все равно. Мне все равно, что со мной будет, потому что Никита не хочет со мной говорить.
Я ничего не вижу, зато все чувствую. Он приходит каждый день, но я не слышу, как он открывает и закрывает дверь, не слышу звука его шагов. Когда идут медсестры или врачи, их слышно еще из коридора. И маму тоже.
А Никита по палате передвигается практически бесшумно, вот только его присутствие я ощущаю всем телом.
Узнавание проникает в каждую клеточку, забивает собой легкие, заполняет мои рецепторы. Восприятие обостряется, я как будто взлетаю над кроватью. Мое тело становится невесомым и парит.
И тогда я его вижу, вижу даже сквозь тугую повязку, плотно прилегающую к глазам.
Никита похудел, осунулся. Между бровями на переносице залегла глубокая складка. Его красивые изогнутые губы сухие и потрескавшиеся. Он поджимает их, сцепив зубы, и смотрит. Смотрит, смотрит, не сводя с меня потухшего взгляда.
И ничего не говорит, а я ничего не понимаю.
«Ник, почему ты молчишь?» — хочется сказать, но я не могу. Не выходит.
Губы не слушаются, не разлипаются, словно они склеенные. Во рту тоже вязко и липко. Может, и у Никиты не выходит?
Тогда ладно, тогда не надо, разве мне нужны слова? Я хочу почувствовать его рядом, ощутить тепло его кожи. Пусть возьмет меня за руку и молчит, больше мне ничего не нужно.
...Выныриваю из бездонного омута и какое-то время пытаюсь понять, где я и что со мной. Воздух в легких густой и тягучий, они будто забиты ватой. Рвано выдыхаю, проталкивая вязкую жижу, и воздух с хрипами вырывается наружу.
— Тихо, Мышка, — слышу внутри себя шепот, — ты просто спала. Все хорошо.
— Ник... — с трудом разлепляю горячие сухие губы, — Ник... ты... ты...
Я знаю, что это Никита, чувствую, что он здесь. Но звенящая тишина в палате пугает.
— Ник, — зову, сминая простыню непослушными пальцами. Я стараюсь, изо всех сил стараюсь, чтобы вышло громко. Только сама себя еле слышу. — Никит... где... ты...
Он молчит. Не говорит со мной, но и не уходит.
— Ник... — повязка увлажняется, из-под нее по скуле вниз стекают обжигающие соленые дорожки.
Шероховатые пальцы касаются мокрых щек, ползут вверх, собирая влагу. Я хочу податься к ним ближе, запрокинуть голову, но ничего не получается. Рука исчезает, в палате становится тихо, и я чувствую, что Никиты здесь больше нет.
А следом откуда-то приходит понимание, что он больше не придет. И я снова плачу, пока повязка не становится совсем мокрой.
***
— Маша, Машуня, — хриплый голос выводит из оцепенения. Или это я так просыпаюсь?
Голос узнаю сразу. Шведов.
Я уже могу кое-как говорить, пусть не очень связно, но это лучше чем ничего. Мама сказала, что у меня ожог дыхательных путей, потому мне больно разговаривать. Но когда все полностью восстановится, речь вернется.
— Родная моя, доченька, — шепчет он с надрывом. Я протестующе поворачиваю голову, но он упрямо повторяет: — Да, моя. Теперь уже точно. Прости, малышка, я не дождался твоего разрешения и сделал тест. Не сердись, это не для меня. Для себя я сразу все понял, как только тебя разглядел. А чтобы отвалил тот, другой. Я твой отец, Машка, только я.
— Не надо было, — отвечаю, с трудом шевеля языком, — мне не нужен отец. Зачем я вам...
— У меня кроме тебя никого нет. Никого, Маша. Прости меня, детка, прости. Я у тебя и у твоей мамы каждый день прощения прошу и просить буду, до смерти.
Хочу возразить, но мою руку берут в захват крепкие шершавые ладони. Шведов упирается лбом мне в локоть, и я понимаю, что он стоит перед кроватью на коленях.
Зачем-то думаю о том, что он вымажет свои брюки. Хоть в палате каждый день моют пол, но у Шведова такие дорогие костюмы, что ими точно не стоит вытирать в больницах полы.
— Я ей предложил замуж выйти, Машуня. Даже если это будет фиктивный брак, все равно.
— Маме? Замуж за вас? Но зачем?
— Чтобы тебя удочерить. Чтобы все, что у меня есть, осталось вам. Ей и тебе.
— Вы собрались умирать? — стараюсь, чтобы это не звучало как насмешка. Я действительно не понимаю.
— Если бы это помогло, помогло хоть как-то исправить... — глухо говорит он, и мне хочется отнять руку. Но на это нет сил. — Но Даша мне отказала.
Я знаю, почему. Потому что ей сделал предложение отец Никиты. Может, из-за этого Никита на меня злится? Что мы отнимаем у него отца?
— Вы мне нравились, Сергей Дементьевич, — говорю, задрав подбородок, — как Джеймс Бонд.
— Кто? — он даже привстает, отпуская руку. — Почему он?
— Не знаю, — мотаю головой, — так получилось. Понимаете, у меня был папа. Леша. Я его очень любила. И сейчас люблю. Он очень хороший, и мне не нужен другой. Фамилию я его менять не буду, и отчество тоже. Не надо меня удочерять.
— Да, я тебя понимаю, детка, — все так же глухо говорит Шведов, утыкаясь лбом в мой бок. — Но можно хотя бы рядом с тобой быть? Помогать тебе? Ладно, не как отец. Как... дядя, наконец. Ты можешь представить, что я твой дядя?
— Дядя Сережа? — переспрашиваю вполне серьезно.
— Пусть. Пусть дядя Сережа, — снова хрипло шепчет. — Даже Джеймс Бонд можно. Только не Сергей Дементьевич.
— Хорошо, — киваю и замолкаю. Устала говорить. И сопротивляться устала.
Сама не понимаю, почему, но мне больше не хочется видеть в нем врага. Может, потому что он спас Никиту?
Моего лба несмело касается рука и гладит макушку.
— Называй как хочешь, плевать. Ты все равно моя дочка. Что мне сделать для тебя, Машуня? Что?
И меня как пробивает.
— Сделайте, Сергей Де... дядя Сережа. Вы сможете.
— Говори, — рука напрягается, и я выдыхаю:
— Никита. Он приходил, он здесь все время был, я точно знаю. А теперь не приходит. Я хочу знать...
— Не приходит? — голос Шведова звучит подозрительно журчаще. — Надо же... Значит придет, детка. Я тебе обещаю.
Глава 31.1
Никита
Выбегаю на крыльцо больницы и с шумом втягиваю в легкие холодный воздух. Может хоть так получится охладить голову?
Потому что меня бомбит. Бомбит от новости, которую сообщил отец, а еще больше от вида, с которым он мне это говорил.
Празднично-идиотским.
Он женится. Женится на Дарье. Этой лгунье и лицемерке.
У меня чувство, что мой мир рушится и летит в ад. В чертову бездну. Будто с тем взрывом на лестничной клетке разорвало в клочья всю мою жизнь.
Девушка, которую я люблю, оказалась обманщицей. Отец, которого я боготворил — грязным насильником. Даже Дарья, которая во всей этой истории рили жертва, вызывает отвращение.
Но больше всего меня бомбит из-за Мышки. Легкие распирает, кажется грудная клетка сейчас разорвется от боли.
Меня некоторое время продержали в той же больнице, куда отвезли отца с Машей. Маша раньше пришла в себя, ее перевели из реанимации в палату, и я каждый день приходил на нее смотреть. Молча. Не хотел, чтобы она знала, что я здесь. Просто смотрел и молчал.
А когда меня выписали, больше не приходил.
Знаю, что у нее может совсем пропасть зрение, случайно услышал, как говорили медики. И от этого тоже бомбит.
У нее такие красивые глаза, у моей Мышки. Не представляю, что они навсегда ослепнут. Мне от этого так крипово, что лучше бы меня разорвало гранатой вместо того ублюдка Грачева, который притащил оружие в лицей.
Но вперемешку с болью меня дико кроет от ее притворства.
Как можно было так долго молчать? Делать вид, что меня это не касается? Ведь она ненавидела моего отца, Маша. Так Дарья сказала. Значит, она и меня ненавидела?
Зачем тогда все это? Меня к себе зачем так близко подпустила?
Все, что было между нами, теперь кажется фальшивым, картонным. А сам я кажусь себе гребанным клоуном.
Где-то в глубине души часть меня сопротивляется, говорит, что Мышка долго не сдавалась. Упиралась как могла. Но я давил и напирал, так, может, она просто не устояла?