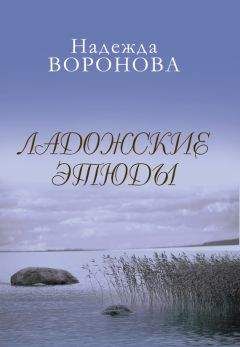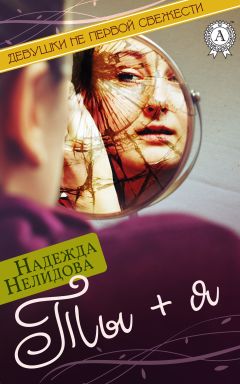Марина Порошина - Майне либе Лизхен
– Бабуля, милая, что с тобой?! Пожалуйста, посмотри на меня! Это я, я, Лева! Ты меня узнаешь?
Ба открыла глаза и с трудом повернула голову. Внук стоял на коленях возле кровати, держал ее за руку, и в глазах у него стояли слезы от бессилия и страха.
– Я тебя напугала? – Ба хотела спросить шутливо и весело, но голос был чужим, и язык не слушался. – Ничего страшного. Мне показалось.
Внук метнулся к тумбочке с лекарствами, принялся что-то капать в стакан – Ба послушно выпила; потом сломал кончик ампулы, набрал жидкость в шприц – и руки не дрожат, умница, подумала Ба, из парня выйдет отличный врач. Вот и лекарства в доме есть, это он позаботился, купил для нее – на всякий случай. «Скорую» Левушка вызвать не предлагал – знал, что Ба откажется, и не хотел ее волновать. Они оба понимали, что чужие люди Ба не помогут. Некоторое время спустя Елизавете Владимировне стало легче. Она села в кровати – Левушка мгновенно подложил подушки – и спросила:
– Сколько времени?
– Половина второго, – ответил Левушка и от радости, что Ба почти пришла в себя, пошутил: – А тебе какая разница? Мы никуда не опаздываем.
– Это точно, – согласилась Ба. – Вызовут, когда срок придет.
– Пожалуйста, не говори так, – взмолился Левушка. – Ты меня и так напугала. Ты так кричала…
– Да? – удивилась Ба. – А мне, наоборот, казалось, что я и звука из себя выдавить не могу. Все-таки я уснула, наверное…
– Конечно, уснула, – подтвердил доверчивый внук. – Я когда пришел, к тебе заходил, ты так ровно дышала, точно спала. Вот тебе и приснилось. А что тебе приснилось-то? Если плохое, то это хорошо.
– Почему? – спросила Ба. Не то чтобы ее интересовало толкование снов, просто она радовалась тому, что голос теперь звучит, почти как всегда. Да и с Левушкой надо поговорить, успокоить.
– Потому что сны надо толковать наоборот: чем гаже сон, тем лучше, – сообщил внук. – Крыса если – к деньгам, а покойник – вообще к счастью.
– Вот мне как раз он самый и приснился, – прошептала Ба. – Только счастья никакого не было и не предвидится. Мне в последнее время один и тот же сон снится: приходит человек, обычный. В плаще, в шляпе. Стоит во дворе, в наши окна заглядывает, будто ждет. А лица у него нет.
– Не надо, бабуля, – попросил Левушка. Усевшись на пол возле кровати, он гладил Ба по руке, иногда прижимался щекой или целовал. – Чепуха же это все. Наверное, ты что-то такое по телевизору видела, вот и осталось в подсознании. Ты не волнуйся. Все в порядке уже, ведь правда?
– Нет, ты послушай, – упрямо продолжала Ба. – Это не по телевизору. И я знаю, кто он. И почему без лица. Помнишь, я тебе про одного человека рассказывала, которого я… любила?
– Конечно, – кивнул Левушка. – Он еще уехал. А ты осталась.
– Он не уехал. Я тебе неправду сказала. Он тоже остался – из-за меня. Его звали Эрнст Леманн, он был одним из лучших архитекторов немецкой школы «Баухауз». Ему было тридцать четыре года, он уже объездил весь мир, и Советский Союз, куда его пригласили, был его очередной командировкой, не более. Но он встретил меня. Еще в тридцать шестом году друзья говорили ему, что надо уезжать, что оставаться в России опасно, они уже все понимали. И потом они настаивали, уговаривали. Но я уезжать не хотела. Он остался, он достраивал вот этот самый дом по своему проекту, дом, похожий на корабль, и мы в шутку мечтали, как будем здесь жить. Или поедем путешествовать на настоящем корабле и увидим разные страны. Он-то их уже видел и рассказывал мне о них так подробно, что я как будто и сама побывала и в Рио-де-Жанейро, и в Лондоне, и в Париже… О чем я… Неважно. В тридцать девятом, в феврале, его арестовали. А потом меня вызвали на Ленина, 17. Вернее, ночью за мной приехала машина, меня подняли с постели и увезли. Я помню, как плакала мама, как пытался поговорить с этими людьми в форме отец – но его оттолкнули, молча, презрительно. Мне было девятнадцать, и я так испугалась – до обморока. Меня везли по ночному, будто вымершему, городу, потом вели по пустым коридорам… За одной дверью, я помню, кто-то страшно, как по покойнику, голосил. Меня ноги не держали. Потом со мной разговаривала какая-то женщина, тоже в форме, очень усталая. Она спрашивала про Эрнста – куда мы с ним ходили, о чем разговаривали, с кем знакомились. Потом сказала, что он иностранный шпион и что таких дурочек, как я, просто использовал для своих шпионских дел. Они продержали меня до утра, я не помню, что говорила, что отвечала. Помню, что подписывала бумаги – все, которые мне давали. Утром меня выставили на улицу. Трамваи еще не ходили. Был мороз. Но я села на скамейку в сквере напротив, они до сих пор там стоят, скамейки. Там меня утром нашли папа и мама, они пришли узнать, что со мной, – и нашли на улице. Я даже говорить не могла.
Мы пришли домой. Родители быстро собрали мои вещи и уже вечером посадили в поезд и отправили меня к тетке, которая жила в деревне под Саратовом. Там я жила до войны. Наверное, это меня и спасло. Может, забыли, а может, рукой махнули – искать, возиться. Проще плюнуть на девчонку, раз даже родители говорят – пропала. И только потом я поняла, что я предала Эрнста. Не просто бумаги подписала и на вопросы ответила – но предала.
Ба замолчала, глотая подступившие слезы. Левушка бросился было за стаканом воды, но она остановила его жестом.
– Бабуля, но что ты могла сделать? – осторожно спросил Левушка. – Ты ведь знаешь, если бы ты не подписала ничего – его бы все равно арестовали. Хотя бы потому, что он – немец. Сейчас же много говорят про репрессии…
– Он из-за меня не уехал, понимаешь? – отмахнулась от его утешений Ба. – Это я его убила. И предала. Меня не били, не запугивали, как сейчас рассказывают. Я и без этого так испугалась, что несколько месяцев не могла прийти в себя. Я тогда не думала про Эрнста. Я вообще ни о чем не думала. А потом, после войны, стала вспоминать – и поняла, что я сделала.
– Ты была совсем девчонкой, – сказал Левушка. – Ты не понимала.
– Я порвала его фотографию, – безжизненным голосом сказала Ба. – Когда родители собирали мои вещи, я нашла его единственную фотографию. Там на обороте было написано: «F..ur meine liebe Lischen, von der ich mich nie f..ur lange Zeit trennen werde».
– Что?! – изумился Левушка. – Ты по-немецки… умеешь?!
– «Моей любимой Лизхен, с которой мы никогда не расстанемся надолго», – с той же интонацией повторила Ба. – Это он написал, когда на неделю в командировку уезжал, в Нижний Тагил. Там они тоже что-то строили. И я ее порвала. В мелкие-мелкие клочки, чтобы ничего нельзя было разобрать. Другой фотографии не было. Так вот, когда я разрешила себе вспоминать – я поняла, что помню все: слова, жесты, места, где мы бывали, людей вокруг… а лица его не вижу. Не могу представить. Закрываю глаза – и пустота. Черная пустота. Я предала его дважды. И он меня не простил.