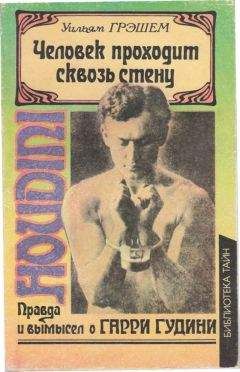Анита Шрив - Их последняя встреча
Доказательство моего постоянства: все мои стихи — о тебе, даже когда кажется, что они о другом. Более того, все они — об аварии, на тот случай, если ты усомнишься в искренности моего чувства вины.
Писать тебе у себя дома я считал изменой — изменой тебе или Регине? Наверное, обеим, поэтому я поехал в своем видавшем виды, дважды угнанном «эскорте» в Найроби, сел за столик в «Колючем дереве» и заказал «Таскер» без червя (про червь — это долгая история). Из помещения, которое, вероятно, служит кухней, валит странный белый дым. Думаю, мне не нужно обращать на него внимания, поскольку никого вокруг он не волнует (хотя, похоже, дым отравляет всех нас). Мне никогда ничего не оставляли на полке для сообщений, но сегодня я, потеряв голову, на всякий случай проверил, не написала ли ты мне зашифрованного послания. (Оставь такое сообщение, когда будешь в следующий раз в Найроби, просто чтобы доставить мне удовольствие; хотя если ты приедешь в Найроби и не сообщишь мне, я умру от разрыва сердца.)
Только в прошлую субботу я сидел в этом самом кафе с Ндегвой. (Еще не зная, что ты здесь. Как такое было возможно? Почему не было никаких небесных знамений, никаких ощутимых вибраций, по которым я распознал бы твои шаги?) Сегодня я ходил в американское посольство от имени Ндегвы и был вознагражден встречей с официальным представителем посольства — что было здесь официального, я так и не понял. Он напоминал мне стареющего морского пехотинца. Подстрижен так коротко, что на голове больше кожи, чем волос. Держался непринужденно и дружелюбно, сделал вид, что рад меня видеть, хотя поначалу понятия не имел, зачем я пришел. Я не доверяю такому панибратскому обращению. Он сказал — я не шучу — «Откуда ты, Том?» Я ответил: «Из Бостона». Он сказал: «А! «Ред Сокс»[44]!» Мы обсудили «Ред Сокс», о которой я знаю меньше, чем следовало бы, и мне показалось, что это был своего рода экзамен, который я не сдал. Мой чиновник стал подозрительным и, кажется, только теперь заметил, что у меня слишком длинные волосы («хиппи» — я буквально слышал его мысли). Наконец он спросил: «Что я могу сделать для тебя?» и «Что у тебя на уме, Том?» Если честно, то у меня на уме была ты (ты у меня сейчас всегда на уме), но я рассказал ему о своей миссии, которая была достаточно туманна, когда я уезжал из дома, и еще более непонятна мне, когда я о ней рассказывал. Я сказал, что желаю помочь Ндегве выйти на свободу. Если это не получится, я хочу оказать давление на правительство Кении, чтобы оно предъявило обвинение и установило дату судебного разбирательства. Эта просьба казалась абсурдной и безнадежно наивной, и именно так он ее и воспринял. Он снисходительно улыбнулся. «Ну, Том, — произнес он, отодвинувшись от стола и сложив руки на коленях, — это очень чувствительная область. — Потом добавил: — Видишь ли, Том, в Кении у Соединенных Штатов есть стратегическая база» и: «Том, я не меньше тебя хочу помочь, но подобные вещи требуют много времени». Я чувствовал себя ребенком, который обратился к отцу за деньгами.
Бодро поставив меня на место, он спросил, что я делаю в этой стране. Поначалу я увиливал, сослался на Регину и наконец сознался, что я писатель. «Для кого ты пишешь?» — спросил он. Вопрос обоснованный. «Ни для кого», — ответил я, и, должен сказать, он мне не поверил. В конце концов, кто бы стал писать ни для кого? Намекая на свои знакомства, он упомянул, что скоро в страну приезжает Тед Кеннеди[45] и что он (мой чиновник) отвечает за организацию вечера в честь сенатора. И тут я выпалил: «Я знаю Теда Кеннеди». Это была первая политическая фраза в моей жизни, более того — первая политическая мысль в моей жизни. Этим я наконец завоевал его внимание. «На самом деле, — пояснил я, — это мой отец его знает. Однажды Кеннеди был в нашем доме на ужине».
«Вот как», — произнес официальный представитель посольства.
И поэтому «делом Ндегвы», возможно, все-таки займутся.
Пиши мне. Ради Бога, продолжай писать. День без тебя кажется непрожитым днем, который можно вынести только потому, что я взываю к своей памяти, копаюсь в ней до полного ее распада, и клочья ее разносятся по ветру.
Люби меня, как ты любила в воскресенье. Разве я прошу о многом?
Томас
P. S. Заголовок в сегодняшней газете: «ГИЕНА УТАЩИЛА ЖЕНЩИНУ В ЛЕС».
15 декабря
Дорогой Томас!
Я пишу тебе из больницы, она называется «Мария Магдалина» (нет, я не выдумываю), мне пришлось отвести туда Дэвида, того мальчика, у которого в классе случился приступ кашля. Мужественный мальчик. Он не хочет, чтобы его исключали. У него какая-то загадочная болезнь, которую врач не может определить. Эта болезнь вызвала пневмонию, и у него такой изможденный вид, что он едва стоит на ногах. Сейчас его увели, чтобы сделать анализы, а я жду, потому что мать Дэвида тоже больна и не может выйти из хижины. За самыми маленькими детьми ухаживает дочь. О Томас, мы ничего не знали о страданиях, даже самых элементарных вещей, правда?
Эту небольшую больницу построили в тридцатых годах для сбившихся с пути девушек европейского происхождения, родители которых были слишком бедны, чтобы отправить их рожать в Европу. Сейчас, конечно, это уже никого не волнует, и больница стала чем-то вроде скорой помощи для всего района. Здесь есть очень хороший врач из Бельгии. Он молодой и веселый, и все женщины влюблены в него. Мне кажется, он вообще не спит: когда я прихожу, он всегда на месте. Врач был озадачен случаем Дэвида и отправил образцы его крови в Брюссель для анализа. Как может врач лечить болезнь, которую не в состоянии даже определить?
Сестра Мари Фрэнсис, внушительная и большая, все время проходит мимо и неодобрительно поглядывает на меня. Вероятно, она видит во мне оступившуюся девушку-католичку, когда я рассматриваю зловещий крест на стене напротив. Монахиня молча проходит мимо, наши взгляды встречаются — просто ничего не могу с собой поделать; возможно, я ищу какой-то знак, какое-то послание от нее? — и я чувствую себя выставленной напоказ, более обнаженной, чем выгляжу в своей небрежной одежде.
Я не говорила тебе, что, когда ты уехал, неожиданно приехал Питер. Я была поражена явлением этого второго за день привидения и отпрянула от двери. Он принял мою панику за простое удивление, которое было вполне понятно. Я все еще ощущаю тебя своей кожей. Мне пришлось придумывать, что я заболела, устала, все, что угодно. Не из стыда, а из страха быть изобличенной.
О Томас, несмотря ни на что, я счастлива.
Вчера я договорилась повезти детей в Ньери на парад в честь Джомо Кеньятты. Тридцать детей влезли в два фургона «фольксваген» и в один «Пежо-504». Мы стояли на склоне и смотрели на участников парада, которые были в племенных нарядах и кроссовках, держали в руках зонты «кока- кола» и без конца ели фруктовое мороженое. Мы послушали, как Джомо Кеньятта произнес речь о «харамбе»[46] и будущем Кении. Конечно, в присутствии детей нужно быть сдержанной и не обращать внимания на горькую иронию слова «свобода», звучащую из уст Кеньятты, когда такие люди, как Ндегва, томятся в тюрьме. (У тебя нет новостей от «морского пехотинца»?) Хотя нужно сказать, что и среди зрителей, и среди демонстрантов напряжение было достаточно высоким: как ты знаешь, Кеньятту уже не любят так, как прежде. На холме совершенно неожиданно возникла паника и началось массовое стихийное бегство. Сотни людей побежали, не понимая, что они направляются к заграждению из колючей проволоки. Паника оказалась заразительной. Мы собрали детей в тесный круг, заставили их лечь на землю и фактически накрыли своими телами. Я думала, что застрелили Кеньятту. Что это переворот. Питер получил удар коленом в спину. Солдаты с ружьями стали на колени рядом с нами и прицелились в толпу. Никто не погиб, но десятки были ранены, когда толпа врезалась в заграждение. Позже мы узнали, что паника была вызвана роем пчел. Над головой, невзирая на свалку, с ревом пронеслись шесть истребителей, приветствуя Кеньятту. На наших глазах один из них отделился от эскадрильи и врезался в близлежащее поле для гольфа.