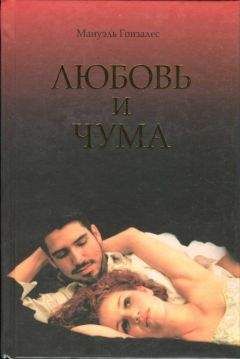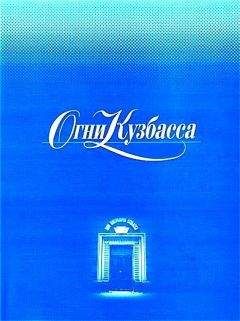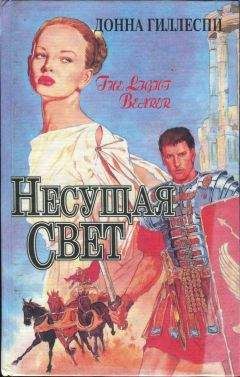Анатолий Ярмолюк - Нежная душа урода
— Начитан и осведомлен, — укоризненно сказала моя Ксюшенька, вернувшись с работы и обнаружив неуклюже припрятанные мною газеты. — Эх ты, сыщик Якименко…
— Через двенадцать дней суд, — сказал я. — Над карликом…
— Я знаю, — сказала Ксюша. — Весь город только о том и говорит. Места в зале заранее бронируют. Как на спектакль…
— Должно быть, меня вызовут в качестве свидетеля, — сказал я.
— Уже вызвали, — с неудовольствием сказала моя жена. — Кстати, так же, как и меня.
— Стало быть, пойдем? — спросил я.
— Пойдем… — вздохнула моя Ксюшенька.
Суд и в самом деле состоялся через двенадцать дней. Уже накануне в городе творилось до такой степени черт-те что, что Батя издал распоряжение об усиленном варианте несения милицейской службы и запросил вдобавок у области два взвода дополнительных патрулей. Особым пунктом распоряжения Батя повелел нам во что бы то ни стало в целях обеспечения правопорядка на подведомственной территории изыскать законную возможность упечь на время судебного разбирательства в кутузку городского правозащитника Васю Убогого со товарищи. Таковая возможность, само собою, была в тот же день изыскана, и Васю Убогого с компанией, несмотря на их протесты и угрозы дойти с жалобами аж до самого Амстердама, упекли…
К моменту начала судебного заседания убогий судебный залишко едва не взяли штурмом, и, вероятно, таки взяли бы, если бы не Батя. Облаченный в каску, бронежилет и с автоматом, Батя подобно карающему богу возвышался на пороге судебного зальчика и одним своим монументальным присутствием остужал многие горячие головы. Следует сказать, что едва ли не половину судебного зала занимали репортеры: и местные, и областные, и московские, и черт его знает, откуда еще…
Я в этом представлении играл роль свидетеля, и поэтому в зал попал не сразу, а лишь тогда, когда меня вызвали. Войдя в зал, я первым делом взглянул на клетку, где находился подсудимый — карлик-убийца Витька Кольцов. Я взглянул — и до боли закусил губы… Маленькое, сутулое, поникшее существо сидело на скамейке и немигающе смотрело в пол. «А душа у него — как цветочек полевой: нежная-нежная»… — вдруг вспомнилось мне, и я тотчас же почувствовал соленую влагу во рту…
Я почти не помню, какие вопросы задавал мне судья и какие я на них давал ответы. Закончив отвечать, я протиснулся сквозь публику, разыскал мою Ксюшеньку (ее вызвали держать ответ раньше моего), и мы, прижатые к стене, молча стали наблюдать за окончанием действа.
— Может быть, уйдем? — то и дело спрашивала жена, внимательно наблюдая за мною. — Лицо у тебя, знаешь ли…
— А что — лицо? — рассеянно отвечал я. — Лицо как лицо… обыкновенное… как всегда.
— Да уж, — с сомнением говорила на это моя Ксюшенька. — Как всегда… как же…
По всей вероятности, судьи намеревались закончить действо как можно скорее — за день, максимум за два. Я так думаю, что на этот счет у них имелось особое распоряжение из каких-нибудь верхов. Ну не распоряжение, так отеческая рекомендация — это уж непременно. В принципе, все это было понятно и вполне объяснимо: целая череда громких преступлений, быстрое их раскрытие, скорый суд… Кому-то необходимо было победно отчитаться, кому-то подставить карманы для щедрых наград…
Мне почему-то казалось, что Витька Кольцов на все обращенные к нему вопросы будет отвечать вяло, неохотно и малословно: уж слишком мрачным, жалким и угнетенным выглядел он в своей клетке. Вспоминая его явку с повинной, я даже думал, что он и вовсе откажется отвечать на какие бы то ни было вопросы. К чему? Что он мог добавить к тому, о чем написал? Что он может изменить либо поправить в своей неказистой жизни своими ответами? Однако я ошибся. Да, карлик Витька Кольцов выглядел мрачным и подавленным, однако на все вопросы он отвечал скоро, четко и, как бы поточнее выразиться, подобострастно, что ли. Да-да, именно подобострастно, даже угодливо. Даже заискивающая улыбка появлялась на его лице, когда кто-то из участников судебного процесса обращался к нему за каким-нибудь разъяснением. Вначале я недоумевал и даже негодовал по поводу такого его поведения, но очень скоро я опомнился. К чему мое недоумение и негодование? Тюрьма меняет человека, она ломает и перекраивает его по единому образу и подобию. Побывавшему в тюрьме человеку очень хочется жить — жить какой угодно ценой, жить во что бы ни стало, жить, жить… А карлик Витька Кольцов к тому же еще и боялся, что в случае чего его, вероятно, будут бить…
К вечеру опрос свидетелей был закончен, утомительно-длинные заключения разнообразных экспертиз были зачитаны. Наутро следующего дня предстояли прокурорские и адвокатские речи, последнее слово подсудимого и — приговор. Финита ля комедия, как говаривали в иные времена и в иных местах. Ну, или финита ля трагедия — какая разница?..
— Мы ведь завтра туда не пойдем? — спросила меня Ксюшенька, когда мы шли с ней по совсем уже осеннему городу. — Нет, и впрямь — что нам там делать? О приговоре мы можем узнать и из газет. Или — ты все узнаешь на работе… Ну, чего ты молчишь? В конце концов, я беспокоюсь о тебе. У тебя сегодня было такое лицо… Я столько на твоем лице сегодня прочитала… Да не молчи же ты, слышишь! Знаешь, мне кажется, что ты себя в чем-то считаешь виноватым. Ну, в чем ты можешь быть виноват? Он — убил, ты — его поймал. В чем же ты виноват? Между прочим, это твоя работа…
— Да, — сказал я. — Разумеется, ты права. Он — убил, а я его — поймал. Я ни в чем не виноват. Просто — такая у меня работа…
— А! — безнадежно махнула рукой моя Ксюшенька. — Ладно уж, пойдем мы туда и завтра. Ох, какой же ты у меня дурак!..
Прокурор, как и полагается прокурору, был немногословен и суров: за все про все он потребовал для карлика смертной казни. Публика ахнула, покачнулась и разразилась одобрительными возгласами и аплодисментами. И мало кто в этом шуме услышал и увидел, как карлик в своей клетке тягуче взвыл, схватился за голову и рухнул на пол…
После прокурора выступал адвокат. А впрочем, что — адвокат? Адвокат как адвокат: да и кто в зале внимал его доводам? Публика жаждала карликовой смерти, никакой иной приговор, кроме смерти, публику бы не устроил…
После адвоката слово предоставили Витьке Кольцову. К этому времени он уже слегка оправился от шока, причиненного словами прокурора, и был многословен, предельно заискивающ и суетлив. Впрочем, смысл его речи сводился к одному: карлик умолял его пощадить. Свою просьбу о пощаде он все повторял и повторял, и даже когда судья произнес: «Суду все ясно» и велел ему замолчать, карлик никак не мог остановиться: вцепившись руками в решетку, под яростные возгласы публики и вспышки репортерских фотоаппаратов, он умолял суд не лишать его жизни… Я не выдержал и, расшвыривая орущую публику, вышел из зала…