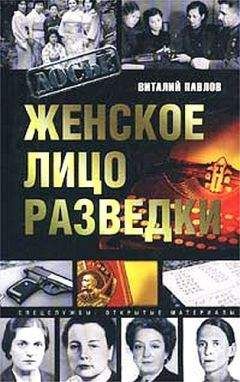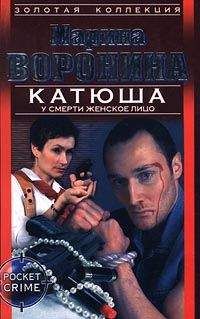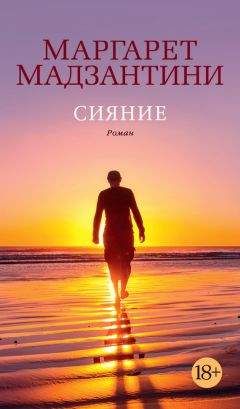Маргарет Мадзантини - Рожденный дважды
Решаю пойти к психоаналитику. Выбираю мужчину, боюсь, что женщина окажется нормальной, плодовитой.
Врач произносит несколько слов — этого достаточно, чтобы убедиться: он никогда меня не поймет. Я больше не верю в разум, я верю в природу, в ее цикличность. Психоаналитик — хороший профессионал, он сдержан, он не хочет меня подавлять, просто хочет дать инструмент, помочь мне самостоятельно разобраться с проблемой. Мне не нужны его инструменты, я и без них понимаю, что существует типовое решение, какой-то способ, который обычно срабатывает. Но не в моем случае. Представляю красные зернышки граната… собака-сучка рожает… я слегка раздвигаю ноги, как будто рожаю сама… Ассоциативные образы, о которых надо рассказывать, но мне не хочется.
Встаю, ухожу и больше не возвращаюсь.
Мне не нужен психоаналитик.
Иногда я нарочно прохожу рядом с мусорными баками, разглядываю на задворках рынка перевернутые ящики. Может быть, там брошенный младенец? Смеюсь над собой, что за глупости… Я схожу с ума? Безумие меня не пугает. Настанет день, когда все пройдет, я перестану думать о детях. Многие живут без детей, не хотят их. В супермаркетах полно продуктов для одиночек — полуфабрикаты, салаты в контейнерах.
Но мы не такие. Мы выносим во двор еду для котов. На нашем балконе устроила гнездо голубка. Повсюду перья и птичий помет. Надо бы прогнать ее веником, выбросить яйца.
Птенцы вылупились, мокрые, черные, некрасивые. Диего хлопочет, делает заграждение из картона — чтобы они не упали вниз, чтобы их не сцапала кошка. Подросшие птенцы улетают вместе с родителями, остается лишь белый ковер помета, который мне приходится отскребать.
Как-то вечером мы заходим в зоомагазин, случайно попавшийся на пути. В клетках сидят собаки, часто дышат, высунув красные языки. Диего берет на руки щенка таксы, гладкого и блестящего, как лакированная туфля. Щенок лижет ему лицо, Диего смеется. Впервые за долгое время я вижу, как он смеется. Трогаю прутья клетки — облезлый попугай с желто-зеленым хохолком. Запах грязных опилок, птичьего корма… моя жизнь пахнет совсем по-другому. Диего трогает меня за плечо, он вернул щенка на место, в клетку, где скулят его сородичи.
— Пойдем.
— Ты не возьмешь его?
— Подумаем.
Я затеяла ремонт, пригласила рабочих побелить стены, ставлю новую ванну, с гидромассажем. Решила поменять на кухне кафельную плитку, выбираю самую яркую. Бегаю туда-сюда с цветовыми палитрами, образцами ткани для занавесок, для изголовья кровати. Чувствую себя проворной, как стрекоза, мне снова хочется жить.
— Тебе нравится новый диван?
Диего кивает, для него и старый был хорош, даже удобнее нового. Ему нравились дряблые подушки, засаленные подлокотники… я знаю, он ничего не стал бы менять. Ему тридцать один, лицо у него по-прежнему детское, но он стал медлительнее, не такой порывистый. Когда он раздражен или взволнован, заходится сухим кашлем.
Как и прежде, он теряет свои вещи — очки, пленки… но теперь упорно, до изнеможения, разыскивает их. Рыщет по всему дому.
Мой папа тоже участвует в игре «найди сокровище», заглядывает под диван, осторожно открывает шкафы… нет, не из любопытства, просто хочет помочь. Вот он нашел фотопленку, возвращает ее Диего, но тут обнаруживается, что пропали ключи от машины.
— Что, старость не радость? — говорит со смехом папа, обращаясь к Диего.
Папа все понимает. В тот вечер, когда я призналась, что не могу иметь детей, он закрыл мне ладонью рот, не хотел, чтобы я говорила, чтобы страдала. Потом поцеловал свою руку, замершую на моих губах, благословил мою судьбу, наш род, который должен на мне прекратиться. Поцеловал мою рану. Когда я была ребенком, он целовал мои разбитые коленки: «Все прошло, доченька, больше не болит».
Кашель Диего меня беспокоит, мы идем на рентген. Все в порядке, даже бронхита нет. Голос у него стал сиплым, из-за кашля воспалились голосовые связки. Этот гнусавый детский голосок терзает мне душу.
Покупаю ему толстый шарф, готовлю раствор для полоскания, словно заботливая мамаша. Он полощет горло, смеется:
— Я — старая развалина.
По-моему, он не против побыть старой развалиной. Ему нужна моя поддержка, моя ответная улыбка.
Елка в горшке, выставленная на балкон после Рождества, засохла. Выбрасываю ее на помойку вместе с комом сухой земли.
Пустую комнату мы превратили в спортзал — это была задумка архитектора. Большие зеркала, гимнастическая стенка, беговая дорожка в центре. Ночь. Я бегу по движущейся ленте, в темную комнату проникает свет уличных фонарей. Ручейки пота текут по лицу, попадают в рот… горький привкус, привкус ярости — выделения зверя, вымершего миллион лет назад. В темном зеркале контур моего тела движется сам по себе, один: эта комната предназначалась нашему ребенку. Внизу, на улице, кто-то смеется… лента движется быстро, я сбиваюсь с ритма, падаю.
Скрыв под рукавом белый бинт на вывихнутом запястье, иду в роддом проведать Виолу. Она уже родила, лежит на постели в мятом халатике, лицо ничуть не изменилось — я привыкла видеть ее такой на работе или за чашкой кофе в баре. Немного обвис живот, на руке лейкопластырем закреплена капельница. Цветная женщина по соседству с Виолой слушает радио через наушники.
Виола лежит в этой жалкой больничной палате, спокойная, умиротворенная, одна нога согнута, лицо желтоватого цвета, волосы растрепаны. Увидев меня, улыбается:
— Как хорошо, что ты пришла!
Я осматриваюсь: почему она не выбрала другую больницу? Но Виола непредусмотрительная — у нее отошли воды, она вызвала «скорую помощь», и ее привезли туда, где было место.
— Покурим?
— А тебе можно?
— Да ну их всех к черту…
Мы стоим у перил, почерневших от смога, на балкончике размером с половичок. Снизу поднимается тошнотворный запах столовской пищи.
Виола курит, жадно затягиваясь. В больничном дворике прогуливаются пациенты, приходят и уходят посетители.
— Ты довольна?
— Да.
Ветер обдувает ее осунувшееся лицо.
Она рассталась со своим парнем, татуированным балбесом, будучи беременной. Решила, что справится сама, хотя характер у нее не такой уж сильный. Никакой романтики, никакой любви — сплошной реализм. И все же есть в этой молодой женщине какое-то очарование.
Помогаю ей протереть шею гигиеническими салфетками, немного прибираюсь в металлической тумбочке: опрокинутый пакет сока, прилипший глянцевый журнал. Виола благодарит меня. Спускаюсь вниз, покупаю для нее пачку сигарет, мороженое. Как странно, что женщина, недавно родившая, сейчас совсем одна.