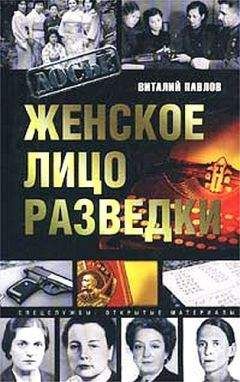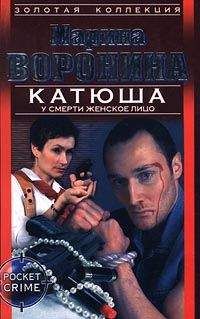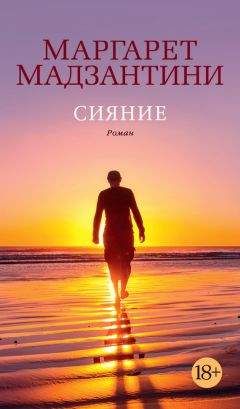Маргарет Мадзантини - Рожденный дважды
Я киваю, побелевшие кисти рук сжаты в крепкий замок.
Диего встает, потирает руками колени, садится снова:
— А три процента?
— Чудо… только чудо. Мы, итальянцы, привыкли верить в чудеса, — разводит руками профессор.
Выходим из кабинета, профессор провожает нас до приемной, до самой входной двери. Он очень сожалеет. Проводил нас, как добрый пастырь, отлучающий заблудших чад от церкви.
— Спасибо…
В этот раз он даже не взял с нас денег.
Спускаемся по лестнице, я держусь за гладкие перила. Здание красивое, сороковых годов, белое, легкое, словно корабль.
Боли нет. Я так много страдала, что сейчас чувствую облегчение. Мне никогда не быть матерью, мое тело никогда не потеряет форму, я высохну, постарею, меня ждет одинокая старость. Нам не выполнить библейскую заповедь: «плодитесь и размножайтесь». Семя не будет брошено, нам не увидеть всходов. Бога нет. Где искать оправдание нашему убогому существованию? По какой дороге идти, чтобы найти смысл жизни? Я чувствую себя так, будто уже умерла. Покой и безмятежность, как в загробном мире.
Путь в царство мертвых — здесь, на улице, которую я перехожу как обычно. Я словно обреченная на казнь, с табличкой на груди: «БЕСПЛОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
Распахиваю все окна, мне кажется, что в квартире темно. Может быть, стены потускнели от пыли и копоти, проникающей с улицы. Самая дальняя комната у нас пустует, мы редко пользуемся ею, разве что развешиваем белье в плохую погоду. Там мы планировали сделать детскую.
У нас длинный коридор, по нему можно кататься на велосипеде, можно играть в мяч…
В этом пальто я напоминаю жандарма. Иду в редакцию привычным путем.
К коллегам по работе, особенно к женщинам, я стала относиться настороженно. Все знают, что у меня были проблемы, но никто не в курсе, какой мне вынесен приговор.
Мы ждем, когда кофе выльется из автомата в пластиковые стаканчики. Виола говорит мне, что беременна. Я обнимаю ее вполне искренне. Она касается меня животом, и между нами пробегает электрический разряд. Я улыбаюсь: может, это из-за одежды, из-за синтетики… Виола кивает, закуривает. Говорит, что сделала уже два аборта, на этот раз решила сохранить ребенка, — все-таки ей тридцать семь.
— А то потом срок годности выйдет, как у йогурта.
Позже я украдкой смотрю на ее живот. Виола мне нравится, она из тех людей, которые вечно впутываются в какие-то истории и к которым ты невольно проникаешься симпатией. И все-таки сейчас мне неприятно находиться с ней в одной комнате, она кажется мне безалаберной, глупой.
Перевожу с английского статью о мужской импотенции. Мужчина, у которого берут интервью, говорит: «Если ты слепой, ты можешь попросить жену описать тебе мир, увиденный ее глазами… если ты импотент, ты не можешь попросить ее заняться любовью вместо тебя…». Плáчу.
Мир разделился надвое. Я принадлежу к мертвой части, как сгоревшие леса, как моря, задыхающиеся от водорослей, как женщины Чернобыля.
Диего заходит за мной. Беру его под руку, скованная, напряженная. Неожиданно замечаю, что в этом городе полно беременных женщин. Раньше я не обращала на них внимания, а теперь вижу на каждом шагу. Стараюсь не смотреть, если какая-нибудь беременная проходит рядом со мной. Я, как собака, чую их за версту. Украдкой слежу за Диего.
Делая маникюр в салоне красоты, рассматриваю девушку, которая склонилась над моими руками. Обычная девчонка с римских окраин, пышная грудь, детородное чрево, — наверное, предохраняется, занимаясь любовью со своим парнем, который выбрасывает семя в презерватив… и чувствует себя счастливой. Не то что я. Оставляю ей хорошие чаевые, толстые губы растягиваются в улыбке. Упругая кожа, дерзкий взгляд. Может, я ее ненавижу. Ненавижу плодовитость бедняков. Ненавижу сомалийку, которая моет лестницу в нашем доме. Иногда она берет с собой дочку. Девочка сидит в уголке, листает журнал или тихо играет. Я прохожу и улыбаюсь этой козявке.
Наступило Рождество. Мы оставили Рим с его праздничной суетой, магазинами и рождественскими вертепами, нашли тихую гостиницу в горах, похожую на пряничный домик. Мы погружаемся в термальные воды, обмазываемся зелеными грязями, запахиваемся в роскошные белоснежные халаты. После ужина сидим в холле. Освещенные окна гостиницы отбрасывают на снег теплый желтый свет. Такое очарование… и такая тоска. Поднимаемся в номер — большая кровать, шоколадка на подушке. Из открытого крана течет вода. Если бы у нас был ребенок, я бы беспокоилась о том, что вода утекает зря, что запасы воды в мире не беспредельны, что всем нам угрожает жажда. Этот запоздалый медовый месяц кажется мне отвратительным, никчемным.
Следующим вечером мы идем играть в боулинг. Диего на этом настоял, чтобы немного развлечься. Атмосфера как в американском фильме. Много подростков. У входа стоят ботинки с налипшим снегом. Мы пьем горячий шоколад из больших стаканов, едим хот-доги. Черные шары катятся по гладкой дорожке, с ужасным грохотом сбивают кегли. Мне нравится этот шум, нужно кричать, чтобы что-то сказать друг другу. Мне нравится кричать. Мы хохочем, как подростки, — сделали шаг назад, и это неплохо. Чтобы не страдать, нужно немного поглупеть. Щеки у меня горят, в глазах пляшут огоньки. Диего обнимает меня, целует в шею. Он помогает мне удержать равновесие, правильно кинуть шар.
Я смотрю на кегли, выстроенные в ряд в конце дорожки. Думаю о детях, о том, что они появляются неожиданно, порой там, где их не ждут, где им не рады. Кидаю шар со всего размаху, вложив всю свою злость в этот бросок.
Диего сидит на кровати и ест шоколадку, поворачивается ко мне:
— Почему бы нам не усыновить ребенка?
Он может позволить себе великодушие, ведь не он бесплоден. Мне хочется ударить его, но я улыбаюсь, жду, пока не утихнет гнев.
Я боюсь чужих детей. Боюсь заложенного в них генетического набора. Чтобы решиться на такой шаг, нужно иметь смелость. Я не уверена в себе. Пусть этот мир тешится своими детьми, я буду тешиться своей бесплодностью.
— Мы не женаты, но мы можем усыновить ребенка на расстоянии. Знаешь, существует дистанционное усыновление — будем посылать ему деньги, писать письма.
На расстоянии…
Церковь в центре города
Церковь в центре города. Барочная позолота, закопченные своды, фрески, мрачные аллегории, на которых пляшут лучи света.
Великий пост, приближается Страстная неделя, время покаяния. Я сижу на небольшой скамеечке в боковом приделе. В полумраке церкви видны фигуры — две старые девы, вот уж кто не беспокоится за свое жалкое тело, не приносящее плодов!