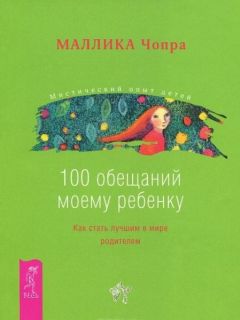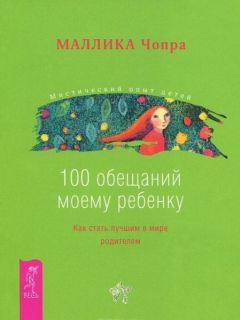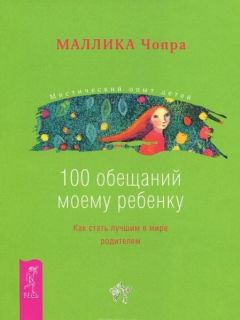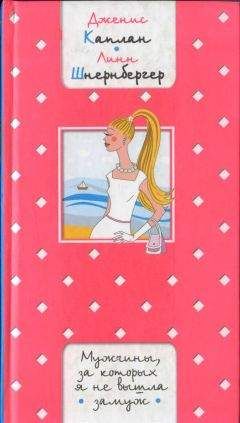Николай Семченко - Яблоко по имени Марина
Странно, но Лена почти никогда не говорила со мной о любви. Всего лишь несколько раз, когда мы занимались сексом, она вдруг вскрикивала и, обнимая меня крепче обычного, шептала: «Ты меня любишь?» Я, сосредоточенный на своих ощущениях, выдавливал из себя лишь односложное «да». А что еще говорить, если подступал тот сладкий, восхитительный миг, из-за которого я, по молодости лет, продал бы душу дьяволу?
Наверное, в отношениях с Леной меня все-таки больше привлекал секс, чем возможность любить ее. Я даже не пытался представить вероятность нашей совместной жизни. Мне казалось, что самое главное в отношениях людей — доверие. Если ты веришь другому как самому себе — это, наверное, и есть любовь. А страсть? А тот самый огонь, который бежит по жилам? А готовность провести вечность вдвоем? А милые безумства, о которых пишут поэты и романисты? Они прекрасны, но без доверия — никак. Любовь начинается с маленькой надежды стать единственным и самым нужным, но самым непостижимым образом она перерастает в обоюдную зависимость: ты не можешь жить без кого-то, а этот кто-то — без тебя. А что, если тебя обманывают? Ну, например, ты стучишь в дверь, а тебе из-за нее отвечают: «Милый, сходи за лекарством от головной боли…».
Лекарство от головной боли все-таки меня впечатлило. Я уже не верил Лене. Она, кажется, чувствовала мое настроение и однажды сказала: «Ты на мне никогда не женишься, и не потому что я старовата для тебя, а потому что боишься: брошу тебя. Как бросала других своих мужчин…».
Я тогда засмеялся и нахально ответил, что ни капельки ничего не боюсь. Стоит мне выйти на перекресток, свистнуть и сразу три, нет, даже пять женщин прибегут на мой зов, и останется лишь выбрать ту, что получше, чтобы трахнуться как следует. А больше молодому здоровому организму ничего и не надо. И вообще, зачем жениться, если женщину можно иметь и без кольцевания?
— Какой наглый! — искренне изумилась Лена. — И какой еще глупый!
— Зато ты у меня умная, — я снисходительно посмотрел на нее, и мы оба рассмеялись.
Отсмеявшись, она посерьезнела и произнесла:
— Я скучаю по тебе…
— Так вот он я, рядом, — отозвался я. — Чего скучать-то?
— Ты правда не понимаешь? — она хмыкнула. — Ладно. Для особо одаренных прямой текст: я хочу тебя.
— Ну, не здесь же, — я беспомощно оглянулся и, дурачась, обрисовал ей перспективы: — Вон мамаша с детьми гуляет — чему же мы научим подрастающее поколение? Вон бабуся шкандыляет с палочкой — мы ее нравственные устои пошатнем. А вон там, в кустах сирени, два мужика пиво пьют — еще захлебнутся от изумления…
— Ты так и не нашел нам места? — не обращая внимания на мое ерничанье, спросила Лена. — Я уже начинаю забывать, какой ты.
Я растерялся от ее откровенности и, чтобы скрыть свое состояние, постарался бросить на нее быстрый лукавый взгляд:
— Неужели такое можно забыть? Нет, не нашел…
— Можно, конечно, забраться в глубь парка, — отозвалась она. — Но там, в зарослях, наверно, полно комаров.
— Нет, никуда забираться не будем!
— Испугался? Я и забыла: ты же домашний мальчик, прозу жизни выносишь с трудом…
— Лен, совсем запамятовал: у нас в понедельник коллоквиум, я — ни в зуб ногой, надо еще конспекты у одного приятеля попросить. Он на Тихой живет.
— О! Ближний свет! — рассмеялась она и вдруг, что-то вспомнив, усмехнулась. — Кстати, там на берегу есть прелестная рощица. Липы растут вот такие — гиганты просто! И сосны кругом, и шиповник, и цветы — красота! Такие местечки в старинных буколических романах описывали…
Она хотела, чтобы я взял ее с собой. Но я не хотел. Потому что на самом деле ни на какую Тихую мне идти не надо. Я хотел побыть с самим собой и подумать, что делать дальше. И коллоквиум тоже ни при чем: тему я знал хорошо и к разговору с профессором приготовился.
— Кстати, в понедельник нам нужно стенгазету доделать, — напомнила Лена. — Не забудешь?
— Ну что ты? Как я могу забыть?
На самом деле я бы не прочь забыть газету. Надоело сочинять датские вирши — к каким-то никому не нужным датам и юбилеям преподавателей. Без них не обходился ни один номер факультетской стенгазеты. А еще Лена обнаружила у меня талант каллиграфа: почерк я имел и вправду четкий; если постараться, то буквы вообще получались со всеми нажимами и тонкими штрихами, как в прописях для чистописания. Так что мне приходилось выводить плакатными перьями заголовки заметок в стенгазете — очень муторное, скажу вам, занятие. Хорошо еще, что сами заметки Лена и ее помощница Верочка Ивлева печатали на пишущей машинке «Москва».
— Правда, не забудешь? А что ты руку в кармане держишь? Не кукиш ли показываешь? — усомнилась Лена.
В кармане у меня лежал маленький желтый камушек — плоский, с редкими черными точечками: они усыпали его поверхность, как маковые зернышки. Если через него посмотреть на солнце, то светило покажется огненным шаром. В жару камушек холодил ладонь, а если становилось прохладно, то он грел руку. Я нашел его на берегу бухты Тихой и носил в кармане уже месяца три.
— Там не кукиш, — покачал я головой. — Там нечто!
— И, конечно, особенное? — Лена усмехнулась.
— Да, — подтвердил я. — Настоящий кусочек бухты Тихой.
— Что? — не поняла она.
— Вот, возьми, — я протянул камушек. — В нем много солнца.
Лена зажала камушек в ладони и как-то странно улыбнулась. Наверно, ей в глаз попала соринка — она часто заморгала, на реснице даже слеза повисла, но, видимо, она не хотела, чтобы я это видел, потому что, ни слова не говоря, махнула мне рукой, повернулась и быстро пошла прочь.
На следующий день, в воскресенье я поставил будильник на девять часов утра: в выходной я любил поспать подольше, тем более что на боковую отправлялся поздно — читал, штудировал конспекты, дописывал рефераты. Но, к моему великому неудовольствию, в восемь утра раздался звонок в дверь. Неужели пришла с проверкой гражданка Н.?
Я решил не вставать. Гражданка Н. может открыть дверь своим ключом, а если кто-то другой — потрезвонит и уйдет восвояси. Ну, никакой совести — будить человека в такую рань!
Звонки, однако, не прекращались. Пришлось надеть трусы, набросить на плечи рубашку и прошлепать к двери:
— Кто там?
— Сто грамм! — ответил женский голос. И ужасно знакомый.
— С утра пьют аристократы и дегенераты, — пошутил я.
— А студенты лишь похмеляются?
Господи, Зойка! Как я сразу не узнал ее?
Открыл дверь, и она, веселая, шумная и сияющая, вошла в квартиру и протянула ладошку:
— Здрасьте!
Но я не обратил внимания на ее ладошку — обхватил ее за плечи: