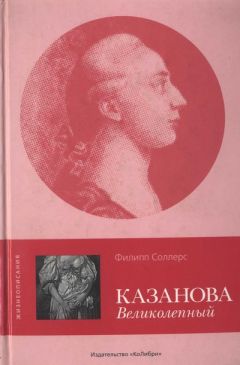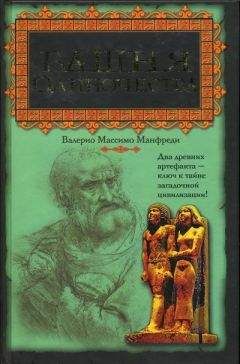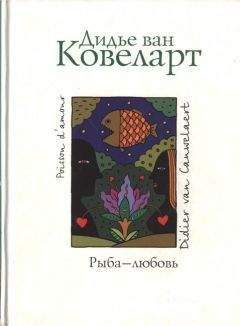Филипп Соллерс - Мания страсти
Нужно представить себе некоего бога — любителя любовных приключений, исполненного бесконечного почтения, предупредительного, нежного, грубого, если это необходимо, но единственно для того лишь, чтобы дать распуститься почкам, высвободить источник. Женщины это ни юные девушки, ни цветы, это плоды. Сколько из них так никогда и не созрели, не были сорваны, распробованы, проглочены, прочувствованы, сколько оставшихся закутанными плеч, ссохшихся в напрасном ожидании животов, не приспособленных для вынашивания иллюзий. Они куда-то бегут, наряжаются, взяв за образец какую-нибудь картинку, изнашиваются, прозябают, дряхлеют, выдох все еще задерживается, озноб еще не прошел, или прошел, но не совсем, никакое тремоло не окутывало их колени, бедра, их грустные голоса. Они становятся раздражительными, подозрительными, мстительными, коварными, желчными. Леда начинает презирать лебедей, Даная перестает доверять золотым дождям, Венера возвращается в свою раковину, Афродита избегает морской пены, Эсфирь страдает бесконечными мигренями при виде Артаксеркса, Поппея чувствует себя разбитой и уставшей, у Клеопатры бесконечные простуды, Жанна дʼАрк пьет по-черному, Сюзанна отдается всем старцам подряд. Давным-давно Мессалина не встает с дивана, мадам Помпадур дня не может прожить без антидепрессантов, госпожа де Мертей возглавляет крупное предприятие. Чтобы как-то все упорядочить, была придумана байка о равенстве всех перед лицом смерти, о великой демократии в стане призраков, о братстве немощных, о созвучии фригидных. К огромному удивлению простофиль всех возрастов, Закон, наконец, признал свой скрытый гомосексуализм. Эта новость может вызывать интерес в течение какого-то времени, например, в Нью-Йорке, где во время Гей-манифестаций никто не имеет такого успеха, как профсоюз полицейских-педерастов. Семьи аплодируют, матери семейств очарованы, все, в конце концов, объясняется, теперь можно надеяться, что наступит какой-никакой порядок. Краткая передышка. Вновь просачивается скука, непримиримые консерваторы, полагающие себя гетеросексуалами, бросают бомбы, насилие усугубляется, ход событий всегда и во всем один и тот же, срочно нужно придумать что-нибудь новенькое. Вот, к примеру, чем плохи: бессмертие, старая, но надежная штуковина, фаустовская пилюля, увековечивание плазмы, почему бы и нет. Никто еще не осмелился написать «Моя ночь с Ледой», а жаль. Всегда человеческая точка зрения, божественная — никогда. Как вам, к примеру, такой заголовок: «Что Всевышний знал о Содоме и Гоморре», или вот еще, подписанное самим Духом Святым: «Как я совокуплялся с Девой Марией». Один раз? несколько? Успех гарантирован.
Говорят всегда слишком много, даже если при этом ничего не сказано, молчание вдвоем — это искусство. С Дорой были просто праздники молчания, полная противоположность красноречивой и немой укоризне супружеских пар, которые повсюду встречаются в аду. Язвительность здесь — в основе своей пища, лишенная сексуальности, и в этой напряженной горечи каждый и каждая имеет свои резоны. Мужчины несносны, женщины изнурительны, искусственное спаривание двоих озлобленных старо, как моногамия. И никакого значения не имеют все эти разводы или повторные браки, побочная эквилибристика, ловко срежиссированное трюкачество на потребу общественному. Закон требует, чтобы все всех мучили, значит, все всех мучают.
Ладно, проехали. Дора мое дитя, а я — ее, нам нравится такое богохульство. Она моя дочь, я ее сын, но она не приходится мне матерью, а я ей отцом. Она моя сестра, но я не ее брат. Вот так, проще не бывает. Два взрослых самостоятельных человека обмениваются своими детствами вне всяких семейно-социальных романов, никакой эротической магии, никакого фокуса. Остальное время мы серьезны, разумны, практичны. Мы посмеиваемся над затруднениями невротического порядка, но только не над нищетой, болезнями или физическими недостатками. Мы безнравственны, мы слишком нравственны. Зрелые дамочки неистовы, девицы зажаты, молодые люди сбиты с толку, мужчины вне себя. Мы не чувствуем удовлетворения ни в Замке, ни в Церкви, ни в Профсоюзе, ни на Предприятии, ни в Музее, ни в Елисейском дворце, ни в Министерстве, ни в Храме Солнца, ни в Журнале, ни в Борделе. Субъекты сходят с ума, безумцы каменеют, геи испаряются, лесбиянки кашляют, милиционеры и милиционерши, имея состав преступления прямо под носом, таинственным образом становятся слепы. Духовенство снимает с себя сан, интеллектуалы рассеялись, извращенцев от всего воротит, страдающие неврозом навязчивых состояний кончают с собой, параноики задыхаются, истериков тошнит. Одни лишь шизофреники и депрессивные маньяки, прежде чем разойтись вечерами по своим клеткам, издали приветствуют нас с удрученным видом. Общины перечеркивают наши списки, но, чтобы уехать, достаточно иметь паспорт и немного денег.
Что касается денег, Дора в этом понимает, она занимается счетами, она знает, сколько можно истратить, и вот — какое-нибудь путешествие или подарки, шмотки или пластинки. Время от времени ей нравится изображать из себя настоящую даму, и ей покупают драгоценность. У нее есть колье, браслеты, часы, броши, булавки, серьги, кольца. Но, разумеется, она носит это не все одновременно. Китайская лаковая коробочка, она роется там внутри, и вот: «Пойдем куда-нибудь пообедаем, пора освежить слухи». А вот и слухи: «Чем она вообще занимается? — Адвокат. — А он? — Трудно сказать. Вроде бы, писатель. — Они женаты? — Нет, она вдова, у нее взрослая дочь. — Он выглядит гораздо моложе ее. — Похоже, это ее не слишком заботит. — С кем они дружат? — Ни с кем. — Как это, ни с кем? — Они вообще довольно странные. — Она красива, правда? — Вы полагаете? — Она занимается политикой? — Закулисно, разумеется. — За левых? — Конечно. — А он? — Темное дело».
VЧто верно, то верно — мое личное дело прозрачным назвать нельзя, и, надо сказать, это потребовало от меня определенных усилий. «Но, ответьте, будьте любезны, вы никогда не принадлежали ни к каким революционным движениям? — Я? Да с чего вы взяли!» Я вынужден был повторить это тысячу раз. Но если не обращать внимания на нескольких кретинов, что регулярно посылали мне анонимные письма о моем так называемом «предательстве», а также моем столь же мнимом «подлоге» (о эти добропорядочные зомби с низкими лбами, или деревенские сумасшедшие вроде Августена Дюбуа, неприметные в своей диаспоре), наши Корректирующие Органы постепенно отказались от мысли разгадать мою игру, настолько все было прозрачно, невинно, следовательно, не поддавалось квалификации. Франсуа давно уже не жил во Франции, наше движение никогда не было организацией структурированной (то есть куда можно было проникнуть), все было каким-то побочным, диагональным и, в сущности, для постороннего человека недоступным пониманию. Таким образом, соблюдался status quo. Что касается существа дела, то лучше было бы сообщить мне напрямик, что меня не выносят как такового, то есть мой рост, дыхание, как я двигаюсь, разговариваю, сплю. Разумеется, проблема существовала, но трудно было ее выразить откровенно расистским, бесчеловечным способом, противоречащим элементарным правам человека (и кто знает, с этой сукой, адвокатессой-еврейкой, не организовали бы против нас какого-нибудь процесса по обвинению в клевете). Поскольку жизнь в Обществе была отнюдь не моим делом (чего никакое Общество никогда не допустит, проецируя на вас беспрестанно свои интриги и страсти по своему образу и подобию), все было к лучшему в этом наименее худшем из всех лживых миров. Наркоманы социального, жертвы социомании, у них свое расписание, у вас свое. Для вашего же спокойствия достаточно время от времени подбрасывать им небольшую дезинформацию. Тогда они торопятся, лают, кусаются, истекают слюной, испражняются, обнаруживают довольно скоро, что речь идет о косточке из пластмассы, тогда они ворчат, фыркают, недовольно брюзжат, расходятся. Подтереть за ними — и все дела.