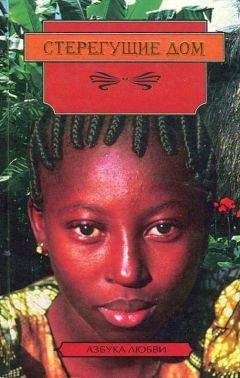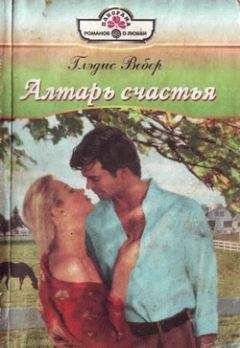Ричард Райт - Долгий сон
— Мужчину сегодня из тебя сделали, а, паренек? — пробормотал он и вышел, захлопнув за собой дверь.
XIV
За оконной решеткой сгустились сумерки, и Рыбий Пуп, сидя в мрачном раздумье, вспомнил, что с утра ничего не ел. Нервы у него были натянуты, он вздрагивал от малейшего шороха — взвинченный после всего, что натерпелся, он не мог расслабиться, казалось, в каждом углу затаилась опасность и выжидает, готовая застигнуть его врасплох. Сколько же его еще продержат в тюрьме? И что случилось с Тони? Избили его? Или, может быть, отпустили домой? Почему это белые не обратили особого внимания на Тони, а привязались к нему одному? Он уже было задремал, но тут зарешеченная дверь отворилась и полицейский впихнул в камеру сонного, спотыкающегося Тони.
— Принимай корешка, артист! — прокричал, запирая дверь, полицейский.
Приятели остались одни. Обоим было неловко, оба держались настороже и не знали, с чего начать разговор. Поговорить хотелось ужасно, но что тут скажешь, когда самому так трудно разобраться в собственных ощущениях. То, что Рыбий Пуп вынес за эти шесть часов, перевернуло и опустошило всю его душу, сидело в нем холодной непрожеванной глыбой, которую никак не переварить. Кроме того, была задета его гордость — ранимый и самолюбивый, он содрогался, представляя себе, с каким презрением должен смотреть на него Тони после того, как он лишился чувств, когда полицейский пригрозил его кастрировать. А что я мог поделать, горько оправдывался он перед собой. Я же не по своей вине терял сознание… Хорошо еще, что Тони увели из камеры до того, как над ним начали измываться снова. Непонятно, зачем это все белым надо?
— Лупили тебя? — грубовато спросил Тони, не умея выразить приятелю свое сочувствие.
— Не-а, — с наигранной беспечностью отозвался Рыбий Пуп. — А тебя?
— И меня нет.
— Меня так только, попугать хотели… ножом этим, — с запинкой признался Рыбий Пуп.
— Чего они, интересно, привязались к тебе? — нахмурясь, спросил Тони.
Подсознательно и не вполне отчетливо Рыбий Пуп догадывался, почему для истязаний был избран он: не столько даже его избрали, сколько он сам преподнес себя своим мучителям в качестве жертвы. Его властно толкало к ним в руки ощущение своей вины, истоком которого была фотография белой женщины у него в кармане. Однако все это он понимал не настолько, чтобы внятно объяснить другому. И как видно, он действительно становился мужчиной, потому что в ответ сказал лишь:
— Не знаю.
— Плевать, не обращай внимания, — с деланным смехом отмахнулся Тони, желая умалить их общий позор. — Может, дразнили нас, и больше ничего.
— А? Ну да. Возможно, — принял Рыбий Пуп это сомнительное истолкование, хоть он-то знал, как недолго было «задразнить» его таким образом до смерти.
Около девяти вечера дверь отпер чернокожий лысый мужчина в белом кителе и, шаркая, внес в камеру сандвичи и два пакета с молоком.
— Вы здесь работаете? — почтительно спросил Рыбий Пуп.
— Я-то? — переспросил мужчина надтреснутым тягучим голосом и хмыкнул. — Нет, брат. Я просто расконвоированный, вот и все. Староста.
— Вы в тюрьме сидите, вроде нас? — спросил Тони.
— Угадал, сынок.
— А что с нами сделают, не знаете? — наивно спросил Рыбий Пуп.
Лысый староста с сомнением оглядел их, как бы прощупывая, и безучастно проскрипел:
— Это смотря в чем вы провинились…
— Мы — ни в чем, — в один голос объявили Рыбий Пуп и Тони.
Староста поглядел на них, дурашливо выкатив глаза, и залился протяжным, нарочито бурным смехом, от которого его под конец скрючило в три погибели, как будто он отколол колено диковинного танца.
— Серьезно? — спросил он с язвительным сожалением. Он отер губы тыльной стороной руки и, покачивая головой, продолжал нараспев: — Мы эту сказку слышим от всякого, кто бы сюда ни попал. Если поверить, выходит, во всей тюряге нет человека, чтобы в чем-нибудь провинился! Все до единого невинны как младенцы!
— Но мы-то просто играли! — жалобно сказал Тони.
— Играли, и больше ничего! — подтвердил Рыбий Пуп.
— Правда? — Тягучий голос старосты был полон недоверия. — И в какие же игры вы играли? А знаете, сколько народу перевешано на этом свете, и тоже ведь просто играли. Вот и Крис Симз, бедняга, сидел здесь в тюрьме, пока не впустили толпу и его не выволокли наружу, и слышал я, как он стонал и плакал в своей камере. Все твердил белым, что, дескать, просто играл с той белой девкой, никому не хотел зла и не сделал ничего плохого. И все одно его убили!
— Нет! — Рыбий Пуп вскочил и, срываясь на крик, вновь видя на столе под беспощадным электрическим светом обезображенное тело Криса, стал горячо объяснять: — Тут белые девушки не замешаны. Мы просто играли на чужой земле, только и всего. А хозяин там — белый. Это называется нарушить частное владение…
Староста быстро отступил, вытаращился еще больше и отвернулся, качая головой, бормоча предостерегающе:
— Ой, не горячись, парень, не теряй ты головы, когда сидишь в тюрьме. — Он опять повернулся к ним и кисло прибавил: — Увидят белые, как ты распалился, и уж точно подумают, что, значит, сильно виноват.
— А все равно белые девушки тут ни при чем. — Рыбий Пуп не мог удержаться, чтобы еще раз не отвести обвинение. Он сел и, еле справляясь с возбуждением, поглядел на старосту.
Продолжая рассматривать их, староста сдвинул языком вставную челюсть и, причмокнув, вновь водворил ее на место.
— А много вам годов? — спросил он.
— Мне? Девятнадцать, — сказал Тони.
— А мне пятнадцать.
— Молодые еще, — медлительно заметил староста. — Что ж, если вы правду говорите, тогда особо беспокоиться нечего. Вот погодите, придут к вам, допросят по всей форме, а там, глядишь, и выйдете, не задержитесь. Родные-то есть?
— Есть, — сказал Тони. — Мой папа — Сайлас Дженкинс. У которого дровяной склад…
— А мой — Тайри Таккер, — сказал Рыбий Пуп. — Похоронщик с Дуглас-стрит…
— Ну да? Не врешь? — часто моргая глазами, спросил староста.
— Честно.
— Фу ты, дьявол! Что же ты белым не сказал? Он у них человек известный, твой папаша…
— А когда? Они меня и не спрашивали, — посетовал Рыбий Пуп.
Староста окинул его взглядом и потер лысое темя узловатыми пальцами.
— Знаю я Тайри, как же, — сказал он с расстановкой. — Хочешь, могу его известить… Мне, видите, разрешается выходить отсюда. — Он помолчал, тусклый огонек страха зажегся в его запавших глазах. — Но если вы мне, огольцы, брешете, жив не буду, а головы поснимаю с вас, слышали? Не хватало мне влипнуть из-за вас, сопляков…