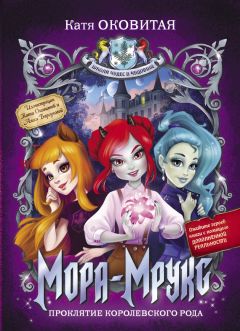Евгений Хохлов - Сны женщины
Сквозь кисею зеркало отражало лишь смутный силуэт в длинном белом одеянии, похожий на привидение.
– Так вполне ничего, – кивнула Татьяна, – но, признаемся себе, нечестно. И трусливо. А трусость – удел мужиков, как говорила бабка Ванда. Потому – долой щадящие покровы.
Она сдернула кисею с трюмо, подступила ближе, и три отражения посмотрели на нее из трех полотен зеркала. Но не только. Где-то далеко за спиной смутно дрожали еще и еще и убегали в глубокую перспективу, будто бы центральное полотно бесконечно умножало отражения.
Слева, вслед за Татьяной, привычно и даже рефлекторно ужаснувшейся состоянию своей прически, Елена поправляла за ухом свой пышный высокий начес, жестко поблескивая прищуренными глазами. Справа молодая Ванда в черном трико с блестками отраженным движением взбивала белые локоны и тоже щурилась. Те, что стояли позади, чуть опаздывали с движениями, и движения шли смазанной волной, убегая далеко в глубину зеркала.
– Мама? Бабушка? Что вам здесь надо? – спросила она, не разжав губ, без голоса, одним выразительным безумием глаз. – А эти кто? – указала она за спину, и ее движение во множестве повторилось. Она почувствовала, как утомительно однообразное множественное движение, словно те, за спиной, вытягивали у нее силы. Ноги у Татьяны подогнулись, и она, обессиленная, тяжело опустилась на пол, уткнула лицо в ладони и тихо завыла, сжав зубы.
– Татьяна, что это ты вздумала? – раздался ворчливый Вандин голос. – Сходить с ума – это непростительная слабость. Еще ничего не сделала толкового, а позволяешь себе рехнуться. Нечего тут выть! У тебя еще полно дел. И, как всегда, никакого порядка, никакой цели в жизни. В кого такая уродилась?
– Сейчас же открой глаза, – сказала мама строгим голосом, таким же, какой Таня помнила с детства, когда, не желая просыпаться с утра пораньше и идти в школу, изображала крепкий сон. – Открывай глаза, притворщица, у нас уже все готово. – Сказала так, будто бы по обыкновению подгоревшая снизу и сопливая сверху яичница, кусок батона с колбасой и дурно заваренный чай уже ждали ее на покрытом истертой клеенкой кухонном столе.
Может, и правда?
Она нашла в себе силы поднять голову. Но робкой надежде ее не суждено было сбыться. Она обнаружила себя не в запущенной и бесхозной кухне своего детства, освещенной слепой лампочкой под плафоном-кульком, а в довольно большой комнате, стены, пол и потолок которой были обиты мягким и белым.
Она окинула комнату взглядом. Окон не нашлось, светильников тоже, но комната была, однако, заполнена жемчужно-лунным светом. Ясно же, что таких комнат не бывает на свете.
– Кто из нас умер? – спросила она.
– Какая разница? – ответила ей мама, так и не оставив в покое свою прическу. – И не в смерти дело. Знаешь, что такое эстафета? Мы просто живем по очереди. Ты еще не поняла?
– Где зеркало? – не унималась Татьяна.
– Зачем тебе? – пожала плечами Елена. – Ты теперь не в том виде, детка, чтобы любоваться собой. Глаза опухли, зареванная, волосы – нет слов! Никогда толком не умела причесываться! В кого такая? Просто мутант! Распустеха. И ко всему – смирительная рубашка. С чем это ты решила смириться, дочь моя? Фу, безобразие! Никогда больше не надевай этот ужас!
– Где зеркало? – тупо настаивала Татьяна.
– Зачем тебе? – подозрительно поинтересовалась Ванда. – Еще разобьешь, сумасшедшая. С детства все бьешь, все из рук валится. Чашки, тарелки, зеркала! Сколько уже перебила?
– Много. И это трюмо разобью.
– Зачем? – мягкой походкой вышла из-за Татьяниной спины чувственного вида красавица в черно-золотом одеянии, темные волосы которой мягким нимбом обрамляли лицо, а губы светились влажно-розовым. – Зачем тебе разбивать?
– Кто ты?
– Не узнаёшь?
– Чей ты портрет? – уточнила Татьяна.
– Моей матери, – мрачно произнесла Ванда и отвернулась.
– Стало быть, я – твоя прабабка, – прошелестела красавица. – История не сохранила моего имени, потому что я свершила месть, которую сочли за примитивное убийство на почве помешательства. Но учти, пожалуйста, моя милочка, что отрезанные головы – это всего лишь символ. Посмотри на свой перстенек, и ты поймешь. Там – тоже отрезанная мужская голова. Что же до меня…
Я была актрисой, примой в оперетте, он – инженером-путейцем, состоятельным человеком и художником, музыкантом, поэтом. Знаешь, есть такие вдохновенные дилетанты, у которых все красиво, чистенько. Они весьма приятны. Он увлекся мною, поначалу всего лишь любопытствуя. Но я смогла развить это увлечение так, что он был готов для меня на все. Он был готов даже убить себя. Но к чему мне это? И мы заключили договоренность: он любит и подчиняется, не пытаясь домогаться меня, терпит мои увлечения, угождает моим любовникам, если таковые вдруг объявятся. Все так романтично, в точности как в одной прелестной книжке. Может быть, ты даже ее читала?
– «Вы научили меня понимать, что такое любовь, ваше радостное богослужение заставило меня позабыть о двух тысячелетиях», – оживилась Елена и погладила, будто живого зверька, воротник своей шубки.
– Да-да, то самое, – оживилась красавица прабабка. – Поначалу все было прекрасно, он писал мне такие удивительные письма! «Мой нежный палач! Я целую твою плеть, окропленную моею кровью…»
– «Да, я жестока! – произнесла Елена. – И разве я не имею права быть такой?»
– Да-да, то самое, – повторила прабабка. – Если честно, до крови дело не дошло, но пара ударов плетью по спине имела место быть. А кровь – это романтическое преувеличение, повод слагать стихи и посвящать их мне – «обворожительной мучительнице», «злому ангелу», «черному лебедю»… Он, помнится, сложил такую балладу – «Черный лебедь». Суть в том, что надо было изловить дикого черного лебедя и принести его в жертву языческой богине, ведающей плотскими страстями, чтобы она не оставила своими милостями. Лебедь был не без труда изловлен и погиб на жертвеннике, но богиня оказалась коварна: она страстями-то наделила, но не обещала, что они найдут столь же страстный ответ. И герой баллады так и маялся, разрываемый безответными чувствованиями, пока не разрушил изваяние богини. Он так усердствовал в разрушительном порыве, так размахивал своей тяжелой булавой, что обломки летели во все стороны, и один из острых обломков, вонзившись в шею, его упокоил. Когда этот несчастный умирал, истекая кровью, тень черного лебедя пронеслась над ним, будто его собственная душа…
Она задумалась на минуту, вся во власти воспоминаний, прижала пальцы к вискам, легкой и величавой поступью прогулялась по мягкому полу туда-сюда, вздохнула и продолжила: